ИНДИВИДУАЛИЗМ — это… Что такое ИНДИВИДУАЛИЗМ?
принцип поведения, социологич. и этич. учение, в основе к-рого лежит признание абсолютных прав личности, ее свободы и независимости от общества и гос-ва. Как социологич. концепция И. совпадает с субъективно-идеалистич. трактовкой историч. процесса. В различных конкретно-историч. условиях концепции И. в социально-политич. и этич. плане носили различный характер и играли разную роль. В Древней Индии принцип И. был разработан школой чарваков. Антикастовая и антибрахманистская направленность И. чарваков, стремление поставить в центр теоретич. проблем человека с его разнообразными потребностями, учение о равенстве людей от природы – все это делало их И. исторически прогрессивным. В др.-кит. философии этич. И. развивал философ Ян Чжу. Смысл жизни, по его учению, состоит в полном развитии природы человека в соответствии с его индивидуальными склонностями. Выдвигая принцип: «все для себя», Ян Чжу в то же время отвергал крайний эгоизм и распущенность личности.
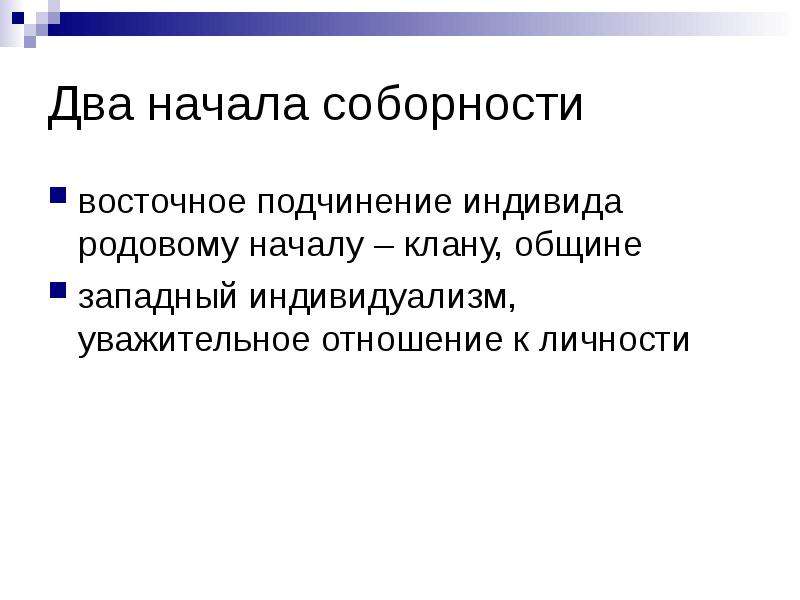 Страстным проповедником этич. И. эпикурейства явился Лукреций. Эпикурейский И. выражал в эпоху упадка греч. рабовладельч. общества стремление части рабовладельч. интеллигенции к уходу от трудностей жизни.
Особое развитие принцип И. получил в этике и морали Возрождения. В эпоху становления бурж. отношений И. означал борьбу за раскрепощение личности от феод. пут, за утверждение естеств. равенства и достоинства людей. Этот И. получает свое выражение в требовании гармонич. развития человека, в культе человеч. разума, в учении о ценности человеч. личности, к-рое находит наиболее яркое проявление у Пико делла Мирандола, Джаноццо Манетти. Обосновывая принцип И., этика Возрождения возрождает антич. теории морали, гл. обр. эпикуреизм, стоицизм, платонизм. Особое значение приобретает этика Эпикура. Эпикурейский принцип наслаждения, понимаемый как удовлетворение естеств. потребностей человека и достижение душевного спокойствия, развивают Козмо Раймонди, Лоренцо Валла, Помпоний Лет и др. В дальнейшем принципы эпикурейской этики возрождаются Бруно, Эразмом Роттердамским, Монтенем, Ванини.
Страстным проповедником этич. И. эпикурейства явился Лукреций. Эпикурейский И. выражал в эпоху упадка греч. рабовладельч. общества стремление части рабовладельч. интеллигенции к уходу от трудностей жизни.
Особое развитие принцип И. получил в этике и морали Возрождения. В эпоху становления бурж. отношений И. означал борьбу за раскрепощение личности от феод. пут, за утверждение естеств. равенства и достоинства людей. Этот И. получает свое выражение в требовании гармонич. развития человека, в культе человеч. разума, в учении о ценности человеч. личности, к-рое находит наиболее яркое проявление у Пико делла Мирандола, Джаноццо Манетти. Обосновывая принцип И., этика Возрождения возрождает антич. теории морали, гл. обр. эпикуреизм, стоицизм, платонизм. Особое значение приобретает этика Эпикура. Эпикурейский принцип наслаждения, понимаемый как удовлетворение естеств. потребностей человека и достижение душевного спокойствия, развивают Козмо Раймонди, Лоренцо Валла, Помпоний Лет и др. В дальнейшем принципы эпикурейской этики возрождаются Бруно, Эразмом Роттердамским, Монтенем, Ванини.
 Эти представители бурж. И. резко выступали против католич. церкви и иерархич. структуры феодализма; их идеалом была разносторонне развитая личность, а вовсе не буржуазно огранич. делец. Учение о «естественной природе» человека, теории «естественного права» и «общественного договора», установление связи моральных норм с материальными интересами индивидов – все это обосновывало бурж. И. и служило оружием в борьбе с феодализмом и католицизмом.
Однако очень скоро обнаружилось противоречие между идеалом разносторонне развитой личности и бурж. действительностью, к-рое отметили уже представители утопич. социализма, особенно Фурье. Сущность этого противоречия сформулировал Маркс: «В буржуазном обществе капитал обладает самостоятельностью и индивидуальностью, между тем как трудящийся индивидуум лишен самостоятельности и обезличен» (Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 4, с. 439). С тех пор как буржуазия стала господствующим классом, И. враждебен обществу. Бурж. И. становится этич. оправданием капиталистич.
Эти представители бурж. И. резко выступали против католич. церкви и иерархич. структуры феодализма; их идеалом была разносторонне развитая личность, а вовсе не буржуазно огранич. делец. Учение о «естественной природе» человека, теории «естественного права» и «общественного договора», установление связи моральных норм с материальными интересами индивидов – все это обосновывало бурж. И. и служило оружием в борьбе с феодализмом и католицизмом.
Однако очень скоро обнаружилось противоречие между идеалом разносторонне развитой личности и бурж. действительностью, к-рое отметили уже представители утопич. социализма, особенно Фурье. Сущность этого противоречия сформулировал Маркс: «В буржуазном обществе капитал обладает самостоятельностью и индивидуальностью, между тем как трудящийся индивидуум лишен самостоятельности и обезличен» (Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 4, с. 439). С тех пор как буржуазия стала господствующим классом, И. враждебен обществу. Бурж. И. становится этич. оправданием капиталистич.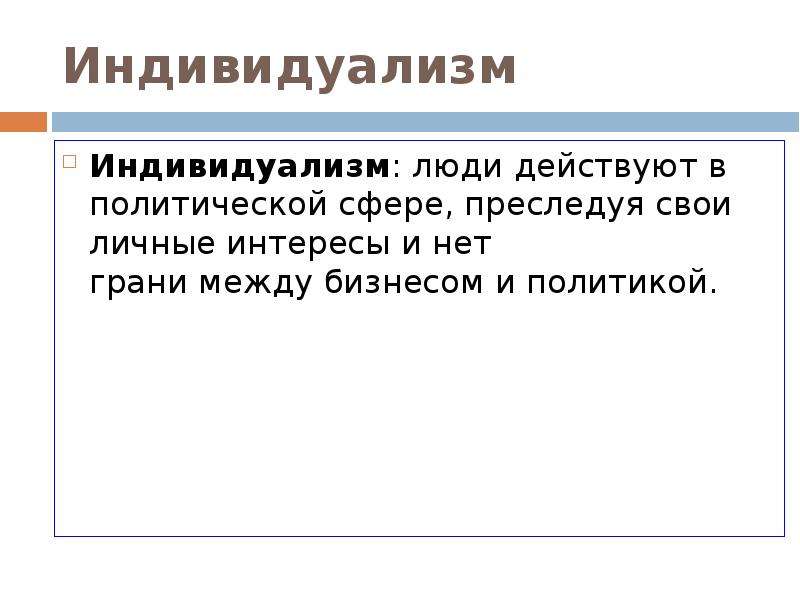
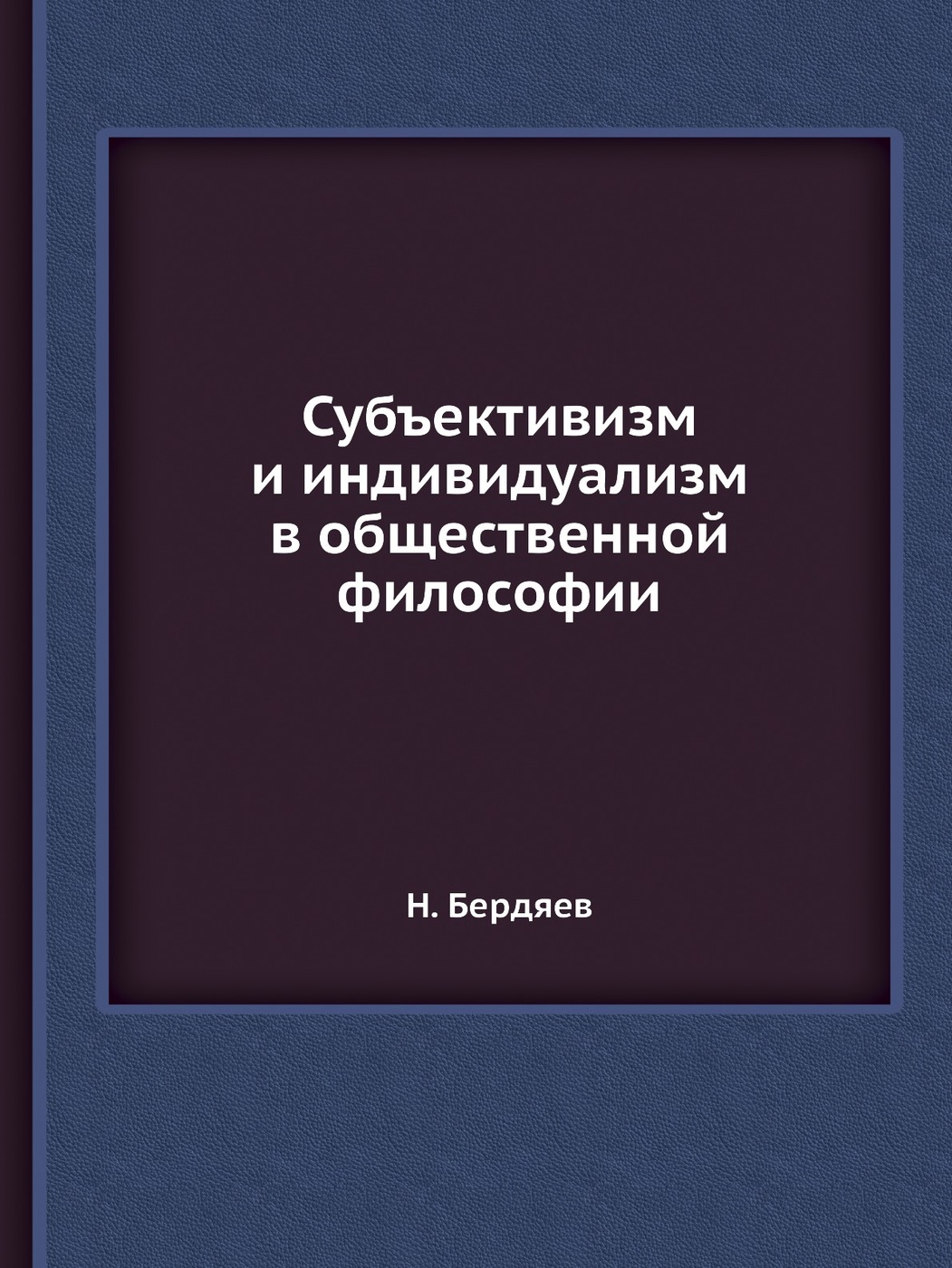 пер. 1867). Дж. С. Милль с позиций позитивизма выразил принцип И. как методологич. основу социологич. и этич. исследований («Утилитарианизм» – «Utilitarianism», 1863, рус. пер. 1900; «О свободе» – «On liberty», 1859, рус. пер. 1900). Начиная с Бентама и Милля происходит слияние этич. теории полезности с бурж. политич. экономией. В исторической (В. Рошер и др.), а затем в австр. (см. Менгер и Бём-Баверк) школах эта теория выступает под названием теории «предельной полезности»; она сохраняет свое значение и в совр. бурж. политич. экономии, напр., у Шумпетера (см. J. Schumpeter, Capitalism, socialism and democracy, Ν. Υ., 1942, p. 126).
В младогегельянской школе И. принял филос. форму «самосознания», критикующего весь мир ради мысленного освобождения индивида от действит. социальных оков. В 1845 М. Штирнер опубликовал манифест бурж. И. – кн. «Единственный и его собственность» («Der Einzige und sein Eigentum», рус. пер. 1906), в к-рой «…на место деятельного буржуазного эгоизма он поставил хвастливый, согласный с собой эгоизм индивидуального «Я» (Маркс К.
пер. 1867). Дж. С. Милль с позиций позитивизма выразил принцип И. как методологич. основу социологич. и этич. исследований («Утилитарианизм» – «Utilitarianism», 1863, рус. пер. 1900; «О свободе» – «On liberty», 1859, рус. пер. 1900). Начиная с Бентама и Милля происходит слияние этич. теории полезности с бурж. политич. экономией. В исторической (В. Рошер и др.), а затем в австр. (см. Менгер и Бём-Баверк) школах эта теория выступает под названием теории «предельной полезности»; она сохраняет свое значение и в совр. бурж. политич. экономии, напр., у Шумпетера (см. J. Schumpeter, Capitalism, socialism and democracy, Ν. Υ., 1942, p. 126).
В младогегельянской школе И. принял филос. форму «самосознания», критикующего весь мир ради мысленного освобождения индивида от действит. социальных оков. В 1845 М. Штирнер опубликовал манифест бурж. И. – кн. «Единственный и его собственность» («Der Einzige und sein Eigentum», рус. пер. 1906), в к-рой «…на место деятельного буржуазного эгоизма он поставил хвастливый, согласный с собой эгоизм индивидуального «Я» (Маркс К.
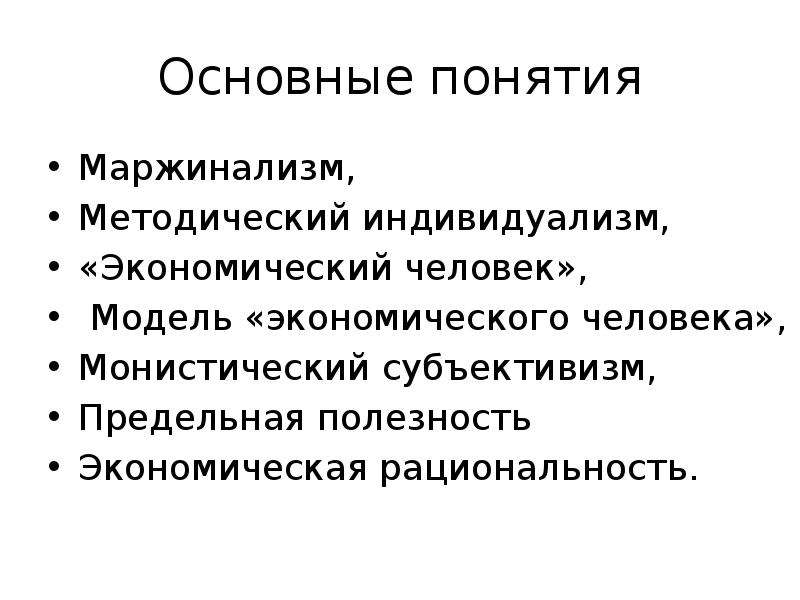
В совр. эпоху реакц. И. представляет собой ядро бурж. идеологии и является осн. мотивом почти всех ее разновидностей, служа гл. идейным оружием буржуазии в ее борьбе против коммунистич. и рабочего движения и мировой системы социализма. В эпоху сосуществования двух социальных систем И. в ходе идеологич. борьбы принял форму бурж. «философии свободы» и противопоставляется марксистско-ленинскому мировоззрению и коммунистич. этике. Осн. направления совр. бурж. философии используют И. как моральное «обоснование» антикоммунизма под видом защиты «свободы личности».
В экзистенциализме, напр., центр. роль играет проблема личности. Целью объявляется свободное самоутверждение индивида. При этом свобода сводится к свободе выбора. И. пронизывает весь экзистенциализм. Изолированная от общества личность испытывает состояние непреодолимой покинутости, заброшенности, одиночества. В поисках утверждения своей свободы ей остается только ожидание смерти, «героизм» бессмысленной жизни (А.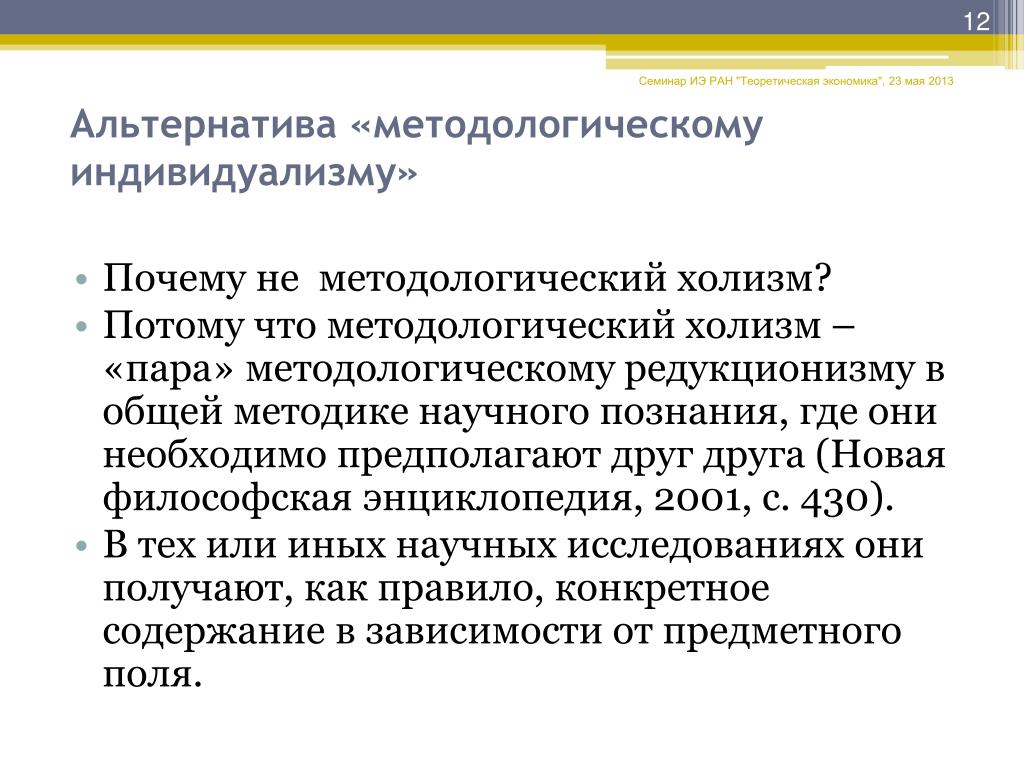 Камю, см. А. Camus, Le mythe de Sisyphe. Essai sur ľAbsurde, 1942) или традиц. религ. иллюзии (Ясперс, Хейдеггер, Бубер, Марсель).
Для неопозитивизма личность служит основой филос. исследований в вопросах гносеологии, социологии и этики. Он сводит все социальное к индивидуальному, объявляет общество пустым, классы, нации, формации – абстракциями и провозглашает И. как цель человеч. стремлений, а также использует И. в качестве существ. черты метода социологич. исследований. Личность живет и действует в социальных группах, к-рые разделяются позитивистскими социологами на первичные (семья, круг друзей) и вторичные (класс, нация, гос-во). Реальны лишь первичные группы, вторичные же рассматриваются как «псевдопонятия». Важнейшей реальностью является индивид. Его качества, отношения и связи определяют облик социальных групп. При этом обществ. отношения личностей толкуются субъективистски и с позиций И. как «отношение личности к…», как комплекс ее мнений, оценок, стремлений, взглядов, не обладающий объективным содержанием.
Камю, см. А. Camus, Le mythe de Sisyphe. Essai sur ľAbsurde, 1942) или традиц. религ. иллюзии (Ясперс, Хейдеггер, Бубер, Марсель).
Для неопозитивизма личность служит основой филос. исследований в вопросах гносеологии, социологии и этики. Он сводит все социальное к индивидуальному, объявляет общество пустым, классы, нации, формации – абстракциями и провозглашает И. как цель человеч. стремлений, а также использует И. в качестве существ. черты метода социологич. исследований. Личность живет и действует в социальных группах, к-рые разделяются позитивистскими социологами на первичные (семья, круг друзей) и вторичные (класс, нация, гос-во). Реальны лишь первичные группы, вторичные же рассматриваются как «псевдопонятия». Важнейшей реальностью является индивид. Его качества, отношения и связи определяют облик социальных групп. При этом обществ. отношения личностей толкуются субъективистски и с позиций И. как «отношение личности к…», как комплекс ее мнений, оценок, стремлений, взглядов, не обладающий объективным содержанием.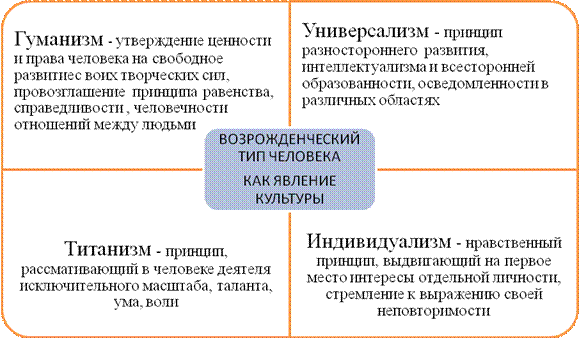
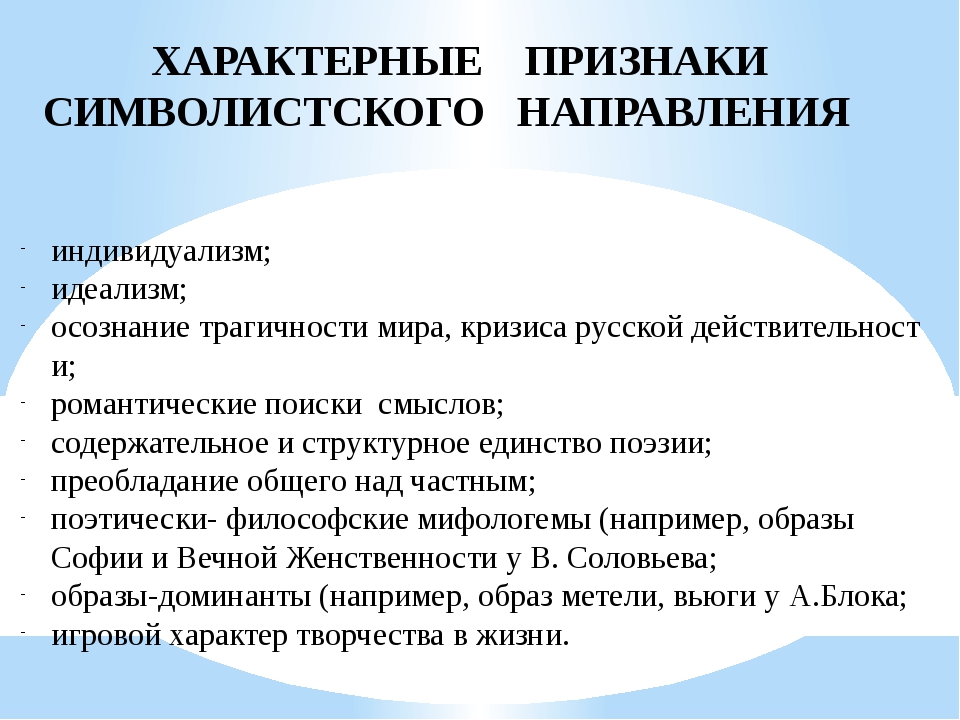 пер. 1922).
Неотомизм, идя навстречу требованиям бурж. идеологии эпохи империализма, уделяет большое внимание проблеме личности. Все социальные проблемы сводятся к морально-религиозным. Общение личности с богом оттесняет социальные связи. Важным актом сознающей себя индивидуальности является утверждение частной собственности и подготовление к индивидуальному спасению. Антикоммунистич. выступления католич. философов во славу бога, церкви и папы проникнуты пропагандой бурж. И. и клеветой на марксизм и социализм.
Для совр. амер. персонализма, тесно связанного с протестантской теологией, И. служит лейтмотивом всей философии. Он раздувается, абсолютизируется, приобретает характер онтологич. концепции (истоки к-рой восходят к монадологии Лейбница, теории микрокосмоса Р. Лотце и христ. теизму Г. Тейхмюллера), согласно к-рой не только люди, но все сущее представляет собой совокупность личностей (см. Брайтмен, Флюэллинг). Во главе иерархии личностей находится бог. И. в этой философии используется для апологии теизма.
пер. 1922).
Неотомизм, идя навстречу требованиям бурж. идеологии эпохи империализма, уделяет большое внимание проблеме личности. Все социальные проблемы сводятся к морально-религиозным. Общение личности с богом оттесняет социальные связи. Важным актом сознающей себя индивидуальности является утверждение частной собственности и подготовление к индивидуальному спасению. Антикоммунистич. выступления католич. философов во славу бога, церкви и папы проникнуты пропагандой бурж. И. и клеветой на марксизм и социализм.
Для совр. амер. персонализма, тесно связанного с протестантской теологией, И. служит лейтмотивом всей философии. Он раздувается, абсолютизируется, приобретает характер онтологич. концепции (истоки к-рой восходят к монадологии Лейбница, теории микрокосмоса Р. Лотце и христ. теизму Г. Тейхмюллера), согласно к-рой не только люди, но все сущее представляет собой совокупность личностей (см. Брайтмен, Флюэллинг). Во главе иерархии личностей находится бог. И. в этой философии используется для апологии теизма. И. как совр. бурж. «философия свободы» используется в качестве оружия в идейной борьбе с коммунистич. идеологией и мировой социалистич. системой. Один из руководителей зап.-герм. ин-та по вост. проблемам К. Менерт в кн. «Советский человек» («Der Sowjetmensch», 1958) обвиняет социализм в ликвидации свободы личности и идеализирует положение личности в капиталистич. мире. С позиций И. ополчается на социализм обосновавшийся в США антикоммунист Г. Маркузе. «Социализм, – по его словам, – проявление возмущения со стороны многих против тех немногих, к-рые обладают и наделены более высокими ценностями; социализм, таким образом, представляет собою часть общего бунта против выдающихся людей» («Reason and revolution…», N. Y., 1954, p. 266). В кн. «Советский марксизм» («Soviet marxism», 1958) он противопоставляет И. коллективизму и коммунистической морали. С клеветой на коммунизм с позиций И. систематически выступает американский прагматист С. Хук. Крайний И. служит опорой различных теорий «элиты», широко используемых против идей социалистич.
И. как совр. бурж. «философия свободы» используется в качестве оружия в идейной борьбе с коммунистич. идеологией и мировой социалистич. системой. Один из руководителей зап.-герм. ин-та по вост. проблемам К. Менерт в кн. «Советский человек» («Der Sowjetmensch», 1958) обвиняет социализм в ликвидации свободы личности и идеализирует положение личности в капиталистич. мире. С позиций И. ополчается на социализм обосновавшийся в США антикоммунист Г. Маркузе. «Социализм, – по его словам, – проявление возмущения со стороны многих против тех немногих, к-рые обладают и наделены более высокими ценностями; социализм, таким образом, представляет собою часть общего бунта против выдающихся людей» («Reason and revolution…», N. Y., 1954, p. 266). В кн. «Советский марксизм» («Soviet marxism», 1958) он противопоставляет И. коллективизму и коммунистической морали. С клеветой на коммунизм с позиций И. систематически выступает американский прагматист С. Хук. Крайний И. служит опорой различных теорий «элиты», широко используемых против идей социалистич. демократии (К. Башвиц, С. Хадлстон и мн. др.) (см. S. Hook, The Него in history, N. Y., 1943, p. 18; К. Baschwitz, Du und die Masse, Leiden, 1951, S. 17; S. Huddlston, Popular diplomacy and war, p. 180). Социальная функция «философии свободы» – продлить агонию обреченного эксплуататорского строя.
Принципы реакц. И. служат основой совр. бурж. социальной психологии, в к-рой значит. место занимает неофрейдизм. Глубоко индивидуалистична психологич. концепция неофрейдизма, построенная на высвобождении инстинктов от социальных ограничений. Ныне она все шире применяется в социальном плане, противопоставляя индивидуальные подсознат. влечения сознат. социальной организации и революц. борьбе.
Маркс и Энгельс поставили на науч. почву вопрос об отношении личности и общества и тем нанесли удар по теориям бурж. И. Они доказали, что абстрактной внеисторич. природы человека не существует; сущность человека – это совокупность всех обществ. отношений данной эпохи. Отношения в обществе частных собственников и обособленных товаровладельцев не могут не порождать И.
демократии (К. Башвиц, С. Хадлстон и мн. др.) (см. S. Hook, The Него in history, N. Y., 1943, p. 18; К. Baschwitz, Du und die Masse, Leiden, 1951, S. 17; S. Huddlston, Popular diplomacy and war, p. 180). Социальная функция «философии свободы» – продлить агонию обреченного эксплуататорского строя.
Принципы реакц. И. служат основой совр. бурж. социальной психологии, в к-рой значит. место занимает неофрейдизм. Глубоко индивидуалистична психологич. концепция неофрейдизма, построенная на высвобождении инстинктов от социальных ограничений. Ныне она все шире применяется в социальном плане, противопоставляя индивидуальные подсознат. влечения сознат. социальной организации и революц. борьбе.
Маркс и Энгельс поставили на науч. почву вопрос об отношении личности и общества и тем нанесли удар по теориям бурж. И. Они доказали, что абстрактной внеисторич. природы человека не существует; сущность человека – это совокупность всех обществ. отношений данной эпохи. Отношения в обществе частных собственников и обособленных товаровладельцев не могут не порождать И. , история к-рого определяется, в конечном итоге, развитием обществ. разделения труда, форм частной собственности и способов эксплуатации. Социальной предпосылкой И. является отсутствие в эксплуататорском обществе подлинной коллективности, к-рая начинает формироваться лишь в ходе классовой борьбы пролетариев. Поскольку последние являются носителями обществ. характера процесса произ-ва и их борьба с капиталом формирует солидарность, сплоченность и сознательность класса, у пролетариата развивается подлинная коллективность в действиях, взглядах и морали, к-рая противостоит бурж. И.
Социализм в корне меняет отношения общества и личности, ибо новыми становятся и общество и личность. Рождается подлинная коллективность общества, не знающего эксплуатации и политич. гнета, и создаются реальные предпосылки для гармонии личности и общества. Всестороннее развитие личности при коммунизме в корне чуждо И. Социализм обеспечивает сочетание обществ. и личных интересов, направленных к построению коммунизма, где свободное развитие каждого явится условием свободного развития всех.
, история к-рого определяется, в конечном итоге, развитием обществ. разделения труда, форм частной собственности и способов эксплуатации. Социальной предпосылкой И. является отсутствие в эксплуататорском обществе подлинной коллективности, к-рая начинает формироваться лишь в ходе классовой борьбы пролетариев. Поскольку последние являются носителями обществ. характера процесса произ-ва и их борьба с капиталом формирует солидарность, сплоченность и сознательность класса, у пролетариата развивается подлинная коллективность в действиях, взглядах и морали, к-рая противостоит бурж. И.
Социализм в корне меняет отношения общества и личности, ибо новыми становятся и общество и личность. Рождается подлинная коллективность общества, не знающего эксплуатации и политич. гнета, и создаются реальные предпосылки для гармонии личности и общества. Всестороннее развитие личности при коммунизме в корне чуждо И. Социализм обеспечивает сочетание обществ. и личных интересов, направленных к построению коммунизма, где свободное развитие каждого явится условием свободного развития всех.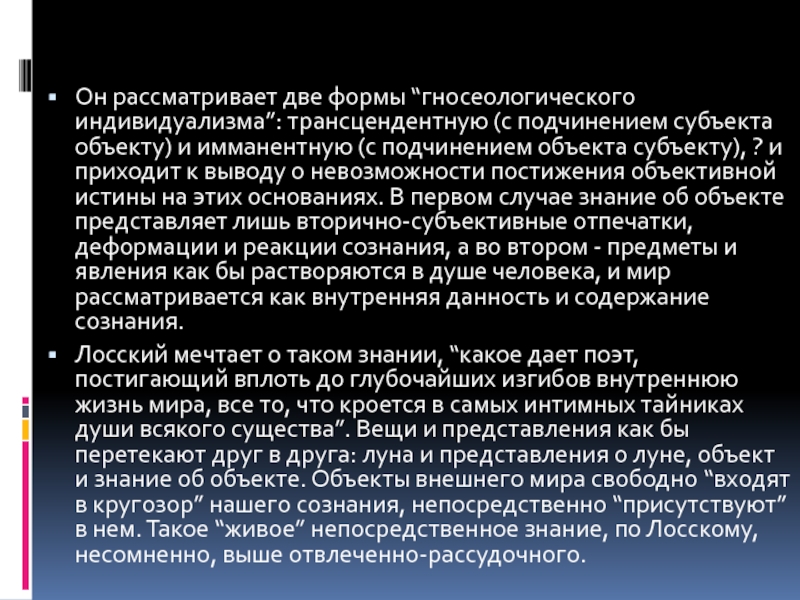 Развитие обществ. самоуправления в период развернутого строительства коммунизма есть яркое выражение действит. демократии и реальной свободы личности. В полную противоположность клевете бурж. «философии свободы» социалистич. коллектив является полем применения сил и талантов личности, стимулом их развития, источником морального удовлетворения, опорой в личной беде. Социализм не обедняет и не нивелирует личность, а поощряет разнообразие интересов и творч. стремлений, ставит своей целью всестороннее и свободное развитие личности. Лозунг Коммунистич. партии, сформулированный в Программе КПСС: «Все во имя человека, для блага человека», выражает стремление обеспечить формирование яркой, самостоят., богатой духовно, чистой морально, гармонично и всесторонне развитой личности, свободной от пережитков И. Моральный кодекс строителя коммунизма, сформулированный в Программе КПСС, пронизан идеалами коллективизма и гуманизма, обеспечивающими свободу и расцвет личности и вместе с тем исключающими всякий И.
Развитие обществ. самоуправления в период развернутого строительства коммунизма есть яркое выражение действит. демократии и реальной свободы личности. В полную противоположность клевете бурж. «философии свободы» социалистич. коллектив является полем применения сил и талантов личности, стимулом их развития, источником морального удовлетворения, опорой в личной беде. Социализм не обедняет и не нивелирует личность, а поощряет разнообразие интересов и творч. стремлений, ставит своей целью всестороннее и свободное развитие личности. Лозунг Коммунистич. партии, сформулированный в Программе КПСС: «Все во имя человека, для блага человека», выражает стремление обеспечить формирование яркой, самостоят., богатой духовно, чистой морально, гармонично и всесторонне развитой личности, свободной от пережитков И. Моральный кодекс строителя коммунизма, сформулированный в Программе КПСС, пронизан идеалами коллективизма и гуманизма, обеспечивающими свободу и расцвет личности и вместе с тем исключающими всякий И.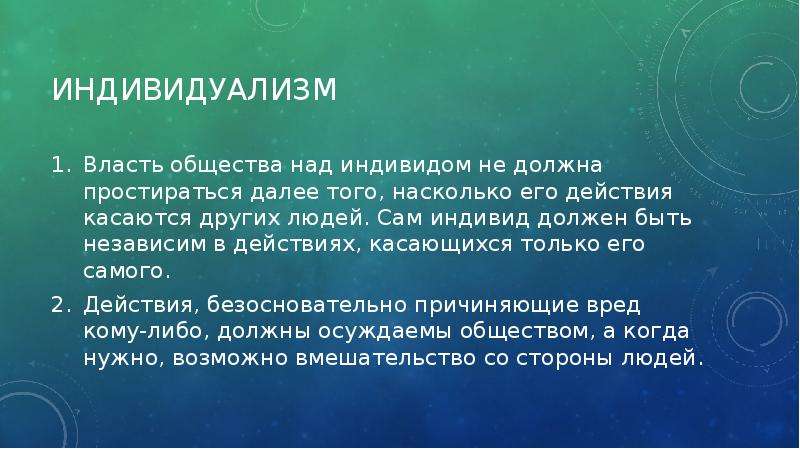 Бурж. И. есть его последняя историч. форма; он обречен историей на гибель вместе с капиталистич. формацией. Коммунизм знает подлинную индивидуальность, полностью и навсегда освобожденную от И. (см. также Личность).
Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., Святое семейство, Соч., 2 изд., т. 2; их же, Немецкая идеология, там же, т. 3; их же, Манифест Коммунистической партии, там же, т. 4; Маркс К., Введение (Из экономических рукописей 1857– 1858 годов), там же, т. 12; Энгельс Ф., [Письмо] П. Л. Лаврову, 12–17 ноября 1875 г., в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф., Избр. письма, М., 1953; Ленин В. Неэкономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве, Соч., 4 изд., т. 1; Программа КПСС, М., 1961; Шишкин А. Ф., Из истории этических учений, М., 1959; Лейбниц Г. В., Монадология. 1714, Избр. филос. соч., М., 1908, с. 339; Lotze H., Mikrokosmus. Ideen zur Naturgeschichte und Geschichte der Menschheit, Bd 1–3, Lpz., 1856–64, рус. пер. – ч. 1–3, M., 1866–67; Winter F. J., Der Individualismus, Lpz.
Бурж. И. есть его последняя историч. форма; он обречен историей на гибель вместе с капиталистич. формацией. Коммунизм знает подлинную индивидуальность, полностью и навсегда освобожденную от И. (см. также Личность).
Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., Святое семейство, Соч., 2 изд., т. 2; их же, Немецкая идеология, там же, т. 3; их же, Манифест Коммунистической партии, там же, т. 4; Маркс К., Введение (Из экономических рукописей 1857– 1858 годов), там же, т. 12; Энгельс Ф., [Письмо] П. Л. Лаврову, 12–17 ноября 1875 г., в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф., Избр. письма, М., 1953; Ленин В. Неэкономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве, Соч., 4 изд., т. 1; Программа КПСС, М., 1961; Шишкин А. Ф., Из истории этических учений, М., 1959; Лейбниц Г. В., Монадология. 1714, Избр. филос. соч., М., 1908, с. 339; Lotze H., Mikrokosmus. Ideen zur Naturgeschichte und Geschichte der Menschheit, Bd 1–3, Lpz., 1856–64, рус. пер. – ч. 1–3, M., 1866–67; Winter F. J., Der Individualismus, Lpz.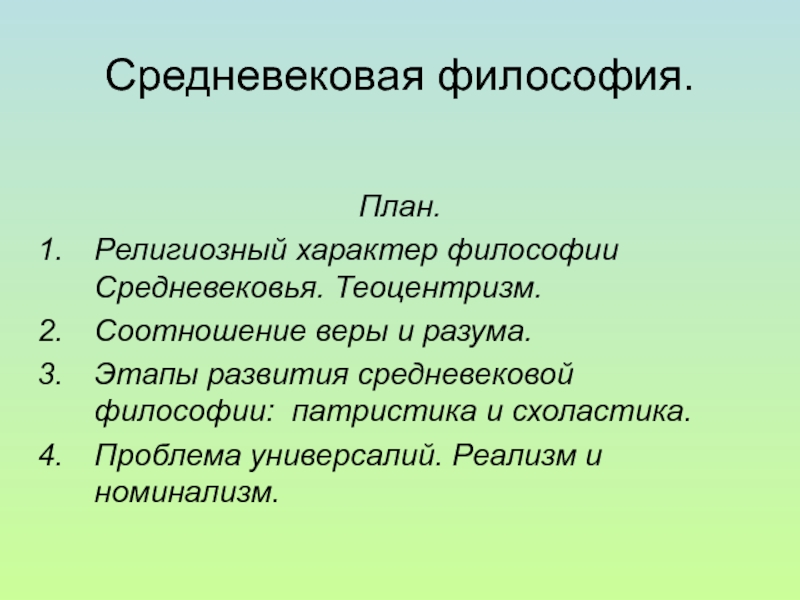 , 1880; Sommer H., Individualismus oder Evolutionismus?, В., 1887: Teichmüller G., Neue Grundlegung der Philosophie und Logik, Breslau, 1889; Ζiegler Th., Individualismus und Sozialismus im Geistesleben des 19. Jahrhunderts, Dresden, 1899; Fournière E., Essai sur ľindividualisme, P., 1901; Fischer E. L., Über den Individualismus…, Charlottenburg, 1907; Wolf H., Geschichte des antiken Sozialismus und Individualismus, Güttersloh, 1909; Fite W., Individualism, N. Y. [a. o.], 1911; Přibram K., Die Entstehung der individualistischen Sozialphilosophie, Lpz., 1912; Archambault P., Essai sur ľindividualisme, P., 1913; Burckhardt G. Ε., Was ist Individualismus?, Lpz., 1913; Weisengrün P., Die Erlösung von Individualismus und Sozialismus, Münch., 1914; Dittriсh О., Individualismus, Universalismus, Personalismus, В., 1917; Horneffer E., Der moderne Individualismus, «Kant-Studien», 1918, Bd 23; Schmalenbach H., Individualität und Individualismus, там же, 1920, Bd 24, H. 4; Кehler F., Wesen und Bedeutung des Individualismus, Münch.
, 1880; Sommer H., Individualismus oder Evolutionismus?, В., 1887: Teichmüller G., Neue Grundlegung der Philosophie und Logik, Breslau, 1889; Ζiegler Th., Individualismus und Sozialismus im Geistesleben des 19. Jahrhunderts, Dresden, 1899; Fournière E., Essai sur ľindividualisme, P., 1901; Fischer E. L., Über den Individualismus…, Charlottenburg, 1907; Wolf H., Geschichte des antiken Sozialismus und Individualismus, Güttersloh, 1909; Fite W., Individualism, N. Y. [a. o.], 1911; Přibram K., Die Entstehung der individualistischen Sozialphilosophie, Lpz., 1912; Archambault P., Essai sur ľindividualisme, P., 1913; Burckhardt G. Ε., Was ist Individualismus?, Lpz., 1913; Weisengrün P., Die Erlösung von Individualismus und Sozialismus, Münch., 1914; Dittriсh О., Individualismus, Universalismus, Personalismus, В., 1917; Horneffer E., Der moderne Individualismus, «Kant-Studien», 1918, Bd 23; Schmalenbach H., Individualität und Individualismus, там же, 1920, Bd 24, H. 4; Кehler F., Wesen und Bedeutung des Individualismus, Münch. –В., 1922; Вreysig К., Vom geschichtlichen Werden, Bd l, Stuttg.–В., 1925; Kallen H. M., Individualism; an American way of life, N. Y., [1933]; Adler M. J., The idea of freedom, N. Y., 1958.
–В., 1922; Вreysig К., Vom geschichtlichen Werden, Bd l, Stuttg.–В., 1925; Kallen H. M., Individualism; an American way of life, N. Y., [1933]; Adler M. J., The idea of freedom, N. Y., 1958.
В. Карпушин. Москва.
Философская Энциклопедия. В 5-х т. — М.: Советская энциклопедия. Под редакцией Ф. В. Константинова. 1960—1970.
Григорий Юдин. Кто мы — индивидуалисты или коллективисты? — Видео
Я занимаюсь социальной теорией и эмпирическими исследованиями, и сегодня у нас в лекции будет немножко и того и другого. Начнем с теории, а потом перейдем к эмпирическим исследованиям и попытаемся сделать некоторые обобщения.
Индивидуалисты мы или коллективисты? Я думаю, все знают этот фрагмент: «Наши люди в булочную на такси не ездят!» И многим он приходит в голову, когда речь идет об исконном коллективизме, который торжествует в России. Что мы видим в этом коротком фрагменте (кадр из фильма «Бриллиантовая рука». — “Ъ”)? Во-первых, что вызывает у нас, наверное, наибольшее раздражение — уравниловка в том, что касается стиля жизни и потребительских стандартов. Есть кто-то, кто говорит от лица коллектива и запрещает человеку иметь собственный потребительский стандарт. Человек немедленно маркируется как не «наш» и вызывает отторжение. Во-вторых, зависть к чужим успехам. Потому что речь идет не просто о том, что человек другой, а о том, что он, вероятно, имеет больший доход, большие возможности. Мы знаем, что на самом деле в фильме это не так. Тем не менее это вызывает такую реакцию, и предполагается, что если ты экономически успешен, то это немедленно исключает тебя из «нашего» круга. В-третьих, в замечательном дядечке, который что-то пишет у себя в блокнотике, мы видим достаточно жесткий контроль. Контроль или слежку, которая осуществляется от лица коллектива, с реальной угрозой создать проблемы. Мы понимаем, что эта дама до некоторой степени не шутит. Она действительно может устроить некоторое количество трудностей человеку, которого решила атаковать.
— “Ъ”)? Во-первых, что вызывает у нас, наверное, наибольшее раздражение — уравниловка в том, что касается стиля жизни и потребительских стандартов. Есть кто-то, кто говорит от лица коллектива и запрещает человеку иметь собственный потребительский стандарт. Человек немедленно маркируется как не «наш» и вызывает отторжение. Во-вторых, зависть к чужим успехам. Потому что речь идет не просто о том, что человек другой, а о том, что он, вероятно, имеет больший доход, большие возможности. Мы знаем, что на самом деле в фильме это не так. Тем не менее это вызывает такую реакцию, и предполагается, что если ты экономически успешен, то это немедленно исключает тебя из «нашего» круга. В-третьих, в замечательном дядечке, который что-то пишет у себя в блокнотике, мы видим достаточно жесткий контроль. Контроль или слежку, которая осуществляется от лица коллектива, с реальной угрозой создать проблемы. Мы понимаем, что эта дама до некоторой степени не шутит. Она действительно может устроить некоторое количество трудностей человеку, которого решила атаковать.
Все это является, может быть, не лучшим выражением представления о том, что такое коллективизм, который в нашей стране существовал и, видимо, продолжает существовать по сей день. Я, впрочем, обращу ваше внимание на то, что фильм снят в 1969 году и все это в нем показано во вполне ироническом ключе.
Идея о том, что коллективизм неотступно следует за нами из советского прошлого, на самом деле высказывается очень часто и вполне серьезными исследователями. Возможно, самая известная формулировка этой идеи была предложена Юрием Левадой (советский и российский социолог, основатель «Левада-Центра».— “Ъ”) и потом развивалась и продолжает развиваться его первым и главным учеником — Львом Гудковым (советский и российский социолог.— “Ъ”). «Простой советский человек» — это коллективное исследование, проводить которое группа Юрия Левады начала еще в 80-е годы и на основании которого строила масштабные антропологические обобщения касательно природы человека в целом. Посмотрим на то, в чем состоит эта модель. Я буду опираться на то, как ее излагает Гудков, и скажу сразу, что буду ее немножко упрощать, потому что внутри себя она довольно сложная и, на мой взгляд, противоречивая.
Гудков говорит, что одна из ключевых характеристик простого советского человека — то, что он называет социальным инфантилизмом, патернализмом и принятием произвола начальства. Это означает неверие в собственные силы, в собственный индивидуальный потенциал, беспрекословное принятие власти, которая дана сверху, и надежда на эту власть. Вторая ее важная характеристика — это уравнительные установки, то есть склонность к тому, чтобы вне зависимости от того, о каком ресурсе идет речь, уравнивать и относиться к неравенству с подозрением, неприятием и завистью. Зависть — это то, что потом перетекает в третью характеристику — комплекс неполноценности. Ущемленность, зависть, стремление не развиваться самому, а тормозить окружающих, держать их на своем уровне и не давать им вырваться вперед.
В принципе, если мы посмотрим на эти три черты, то это примерно то, что мы только что обнаружили в героине Нонны Мордюковой (фильм «Бриллиантовая рука».— “Ъ”), и то, что нас больше всего раздражает. В этом смысле героиня Нонны Мордюковой — идеальный простой советский человек. Гудков, кстати, добавляет сюда еще веру в собственную исключительность, в то, что мы — советские люди — чем-то отличаемся от всех остальных, что у нас какая-то исключительная судьба. Но это нас интересует сегодня меньше, а первые три черты очень хорошо вербализуют идею советского коллективизма. Гудков прямо так и называет простого советского человека — человеком коллективным, для которого характерно групповое принуждение, коллективное заложничество, конформистское единомыслие, общность фобий и предрассудков. Судя по описанию, крайне неприятный тип.
На самом деле это не просто портрет среднего советского человека, это довольно мощная в смысле своей объяснительной широты теория. Потому что она предполагает, что этот самый советский человек не просто где-то существует как средний тип, а способен к самовоспроизводству. И хуже всего то, что он это делает в условиях меняющихся или даже изменившихся институтов и социальных структур, в результате чего эти самые институты извращает. Грубо говоря, когда ему предлагаются какие-то новые институты, сам он внутри не меняется и использует их так, как ему удобно и привычно использовать. Это более или менее стандартное объяснение провала институциональных реформ. Потому что люди, которые проводят институциональные реформы, обычно надеются, что если поменять институты, то поменяются человеческие мотивации и действия. Но нет же, говорит нам этот подход, все эти реформы наталкиваются, как на каменную стену, на этого самого простого советского человека, который все равно все видит по-своему, который настроен только на самовоспроизводство и с которым по большому счету ничего невозможно поделать.
Именно поэтому простой советский человек оказывается несовместим с теми институциональными реформами, которые проводились в России в начале 90-х годов. Он несовместим с рыночной экономикой, он несовместим с либеральной демократией, он несовместим с уважением прав человека, потому что все это по большому счету предполагает гораздо большую степень индивидуализма. Современное же общество, с точки зрения этого подхода, держится принципиально на индивидуальных достижениях, а значит, когда мы имеем дело с этим самым простым советским человеком, он сопротивляется не просто всем этим атрибутам, он сопротивляется истории, он сопротивляется времени, он навечно застрял где-то там далеко.
Откровенно говоря, в этой теории есть некоторая непоследовательность. Предполагается, что советского человека сформировали советские структуры, советская идеология, советские институты. В то же время предполагается, что когда он сформирован, то новые структуры, новая идеология, новые институты никакого влияния или воздействия на него оказать не в состоянии — они от него отлетают, как пульки от железного истукана. То есть, когда он формируется, он довольно пластичен, а когда мы имеем дело с какой-то новой институциональной системой, то она уже не в состоянии ничего с ним сделать, он затвердел и резистентен.
На это затруднение есть еще более радикальный ответ. Он состоит в том, что на самом деле коллективист растет вовсе не из советского опыта, а из куда более ранней истории — из русской общины, из этого небольшого узкого мира, который подавляет человеческую индивидуальность. И с тех пор этот самый общинный русский человек никуда не девается. Меняется лишь его внешнее обрамление. То есть это такая историческая константа, которая проходит сквозь всю историю, и по большому счету у нас нет никаких шансов от нее отделаться. Иногда это называют теорией колеи. Предполагается, что мы попали в некоторую антропологическую колею, и дальше уже по большому счету ничего измениться не может — разве что полностью поменять людей, этих выселить куда-нибудь и набрать других, но сделать это сложно, поэтому, увы, перспективы невеселые.
В общем, все выглядит так, как будто мы застряли в коллективизме, в то время как мир движется к индивидуализму, и мы идем по дороге, которую нам преграждает этот самый Франкенштейн — простой советский человек. И самое страшное в нем не то, что он стоит у нас на пути, а то, что на самом деле это мы и есть. И по большому счету нам пришлось бы вытянуть себя за волосы из болота, чтобы что-нибудь с этим сделать. Такой подход обычно приводит к глубоко пессимистическим взглядам, предсказаниям и пониманию перспектив. Потому что раз это антропологическая константа, то с ней, по-видимому, ничего сделать невозможно.
На самом деле вопрос о коллективном и индивидуальном основополагающий для социальной науки. Но первый сюрприз, который нас ожидает, состоит в том, что классическая социология вовсе не противопоставляет коллективное индивидуальному в том смысле, что одно должно исключать другое. Социология вообще такая наука, которая построена на постоянном обращении к своим истокам, к своим классикам, она все время переосмысливает то, что было заложено в качестве ее фундамента во второй половине XIX — начале XX века. Это совсем молодая дисциплина. Ей всего 100–150 лет — в зависимости от того, как считать. И возникает она как частный проект в рамках большой традиции политической философии, который должен решить проблемы конкретного исторического момента. В это время происходит стремительный прогресс, но при этом не очень понятно, на чем будет дальше держаться общество. Традиционные структуры социального порядка распадаются. Как обществу удержать свою целостность? Как ему не скатиться в междоусобные распри? Как избежать войн? Классики социологии схватились за эти вопросы очень вовремя. Они, конечно, предчувствовали многое из того, что предстояло пройти человечеству в первой половине ХХ века.
Если внимательно присмотреться к флагу Бразилии, на нем на фоне звездного неба написано «Ordem e Progresso» — «Порядок и прогресс». Как ни странно, эта надпись появилась на бразильском флаге в прямой связи с социологией. В середине XIX века во Франции жил человек, которого звали Огюст Конт и который считается основоположником социологии,— он придумал этот термин. На самом деле он придумал множество терминов, в частности термин «альтруизм», а также придумал философию позитивизма, которая отвергала всякую религиозную веру, не верила ни во что, кроме фактов,— и в итоге сама, по крайней мере с точки зрения Конта, превратилась в религию. Он основал позитивистскую церковь и стал главным пророком позитивизма на Земле. И это все выглядит как сумасшествие, но в XIX веке у Конта было довольно много последователей — причем преимущественно не во Франции, а в других странах. Кое-где эта позитивистская церковь укрепилась, и одной из тех стран, где она укрепилась наиболее основательно, стала Бразилия, где по-прежнему можно видеть позитивистские храмы, хотя понятно, что сейчас это имеет уже совсем не те масштабы.
В Бразилии позитивисты успели оставить след и на бразильском флаге, запечатлев те самые два вопроса социологии, о которых мы говорим,— вопрос о порядке и вопрос о прогрессе. Или по-другому — как возможен порядок в условиях распада традиционного порядка, освобождения человека, эмансипации, расцвета человеческой индивидуальности? И как обеспечить порядок, чтобы при этом был возможен общественный прогресс, чтобы он не остановился? В таком виде вопрос о соотношении индивидуального и коллективного на самом деле является для всех основоположников социологии.
Этот вопрос волновал всех серьезных мыслителей конца XIX — начала ХХ века. Но, пожалуй, наиболее отчетливо он был поставлен человеком, которого называют главным наследником Конта,— Эмилем Дюркгеймом. Дюркгейм понял, что главный цивилизационный вызов заключается в том, как совместить индивидуальное освобождение человека, с одной стороны, и коллективную жизнь — с другой. То есть как не выбирать между ними, а дать пространство и для того и для другого. Понятно, что если индивидуализация ничем не сдерживается и достигает своих пределов, то людей уже ничего не держит вместе, и мы получаем неограниченную конкуренцию, которая в конечном счете выливается в войну, где нет никаких правил и где мы чувствуем себя враждебно расположенными ко всем, кто вокруг, и испытываем необходимость отвоевывать у них ресурсы. С другой стороны, остановить индивидуализацию — Дюркгейм понимал это очень хорошо — значит остановить прогресс. Такие точки зрения, конечно, тоже были. Желающих вернуться в традиционное общество было вполне достаточно. Но Дюркгейм как раз полагал, что это значит поместить человека в ситуацию, где все решения принимаются за него, где его жизнь заранее предопределена кланом, церковью, общиной, подавить его креативный потенциал и остановить общественное развитие.
Дюркгейм предложил сразу два решения этой проблемы — две модели сочетания индивидуального и коллективного. В 1893 году он написал книгу «О разделении общественного труда», во многом благодаря которой во Франции и появилась социология как институализированная академическая дисциплина. Позже он, по-видимому, разочаровался в этой модели, лет десять ничего не писал, а 1912 году написал работу «Элементарные формы религиозной жизни», в которой была предложена совсем другая модель.
Первая модель, 1893 года, предполагает, что коллективная и индивидуальная жизни существуют одновременно. Они синтезируются в том, что Дюркгейм называет органической солидарностью. Что это такое? Солидарность — это то, что держит общество как некоторое единство. При этом каждый человек занимает в этой системе солидарности свое специальное место. Это похоже на функционирование организма. У каждого из нас есть свое четко определенное место, которое он занимает в этом большом общественном организме. Поэтому Дюркгейм очень большое внимание уделял профессии, которая определяется тем, какую ценность она представляет для общества. Любой профессионал — медик, ученый, кто угодно — в конечном счете движим стремлением быть полезным обществу.
Органическая солидарность предполагает, что развитие каждого индивида как элемента большого общественного тела способствует общественному прогрессу. Скажем, индивидуальное развитие врача, или изобретателя, или ученого ценится в обществе, потому что оно приносит ему пользу. Именно поэтому врач или ученый считаются престижными профессиями. Если бы они делали что-то совершенно бесполезное обществу, то вряд ли мы бы стали их уважать. Их индивидуальное творчество получает тем самым достойную оценку. Иными словами, чтобы индивидуальные достижения ценились, как ни странно — и это важная мысль,— должен существовать некоторый коллективный консенсус по этому поводу. Мы, как коллектив, должны быть уверены в том, что мы ценим определенные индивидуальные достижения. Если такого консенсуса нет, естественно, каждый начинает уважать только собственный успех, а к окружающим испытывать в первую очередь подозрение и зависть. Дюркгейм доходит даже до того, что в обществе с органической солидарностью должен укрепиться так называемый культ индивида — сочетание коллективного и индивидуального. Как коллектив, мы все глубоко верим в этом коллективном единстве в ценность человеческой индивидуальности. Это первая модель.
Вторая модель предлагает совсем другой ответ. В 1912 году Дюркгейм начинает предполагать, что на самом деле коллективная и индивидуальная жизнь существуют не одновременно. Они чередуются во времени. Что это значит? Это значит, что основную часть времени мы живем своей обычной частной, индивидуальной жизнью и ни в какую коллективную жизнь по большому счету не вовлечены. Но время от времени возникают какие-то коллективные события или движения, которые возбуждают в нас то, что он называет коллективными эмоциями. Они увлекают нас, и благодаря им мы ощущаем себя частью коллектива. Иными словами, социальный порядок поддерживается этими самыми моментами интенсивной коллективной жизни. Дюркгейм назвал это бурлением коллективных чувств. То, что общество при этом не распадается, является следствием остаточного воздействия сильных коллективных чувств. Они потихонечку ослабевают, но все равно мы продолжаем испытывать их в себе.
Для Дюркгейма типичным примером точки кипения коллективных чувств являются праздники. Причем коллективно значимые праздники. Не такие, когда мы не знаем, что делать, и просто едем на дачу, типа 4 ноября, а праздники, которые на самом деле являются моментами коллективной жизни, где мы празднуем вместе, где мы вырываемся из своего привычного состояния, где мы можем переходить какие-то обычно принятые границы и так далее. Скажем, когда мы устраиваем корпоратив на Новый год или празднуем 9 Мая, мы делаем что-то вместе, а не просто расходимся по своим домам. Это, с точки зрения Дюркгейма, оставляет довольно длительный след, который потихонечку затихает, но тем не менее держит нас вместе. Пока через некоторое время не происходит реактуализация. За счет этого, собственно говоря, общество и может существовать.
Между прочим на этом импульсе бурления основан социальный прогресс. Потому что по большому счету, с точки зрения Дюркгейма, наши убеждения, наши стремления, наши мотивации формируются в те редкие моменты, когда происходит выплеск коллективных эмоций. Именно тогда в нас как бы закрепляется понимание того, во что мы верим, ради чего мы живем, ради чего стоит жить. Какие-то глубокие убеждения, ради которых мы готовы действовать в дальнейшем. Это запоминающиеся для нас моменты, когда что-то происходит внутри нас, когда мы претерпеваем некоторую трансформацию и усваиваем глубокие верования и убеждения, которые нами руководят в дальнейшем.
Дюркгейм, естественно, как всякий приличный француз, когда писал что-то по социологии, держал в голове Великую французскую революцию. И Великая французская революция как раз и была таким актом бурления, который закрепил в людях, совершенно не обязательно разделяющих ее убеждения до этого, свои лозунги и свои девизы. А потом закреплял путем повторения. Потому что мы знаем, что любая приличная революция меняет календарь, вводит новые праздники, и этим всем занималась и французская революция. Тем самым она дала длительный импульс, в фарватере которого мы по большому счету находимся до сих пор, потому что лозунги свободы и равенства — это лозунги, которые достались нам от Великой французской революции.
Обратите внимание, что в обеих моделях необходимо, чтобы оба слоя — как коллективный, так и индивидуальный — были крепкими. Различаются эти модели только своим функционированием и тем, как они мыслят соотношение этих слоев. Первая модель Дюркгейма, на самом деле, лучше описывает либеральные демократии, как они формировались в XIX веке. В них либеральный компонент, ответственный за индивидуальную свободу и развитие, сочетается с компонентом демократическим, ответственным за коллективное самоуправление и установление условий для этого самого индивидуального развития, коллективную заботу о том, чтобы каждый из нас мог развиваться как личность.
Это можно хорошо проиллюстрировать работой, которая была написана чуть раньше,— классической книгой Алексиса де Токвиля «Демократия в Америке», которая стала своего рода хрестоматией либерально-демократического порядка. Она в подробностях показывает, как происходит синтез двух элементов. С одной стороны — элемент либеральный. Токвиль пишет, что нет другой такой страны, где любовь к собственности была бы так сильна, как в Америке. С другой стороны — Токвиль постоянно подчеркивает, что американцам свойственна совершенно невероятная страсть к тому, чтобы решать все вопросы на собраниях,— то, что называется town hall meeting, собрания в ратуше. Именно на этих собраниях и вырабатывается та самая солидарность, благодаря которой американское общество ценит индивидуальную свободу и индивидуальные достижения. Ценит индивидуальный вклад в общественное благо. Ценит индивидуальный успех. Уважение к правам человека возникает из коллективной борьбы за эти права. Оно не возникает просто так, оно не сваливается с неба. Только в том случае права другого могут оказаться важны для меня, если они завоеваны коллективно, если они значимы для всех нас. Поэтому Токвиль говорит, что для свободы, то есть для либерального компонента, публичные собрания — то же самое, что школы для науки. Это такой фундамент, без которого нельзя.
Вторая же модель Дюркгейма гораздо больше соответствует сегодняшнему дню, когда такие устойчивые, крепкие структуры либеральных демократий становятся все слабее. Люди все меньше участвуют в общественной жизни, ослабляются профессиональные ассоциации, практически везде мы можем видеть, что они замещаются менеджерами и администраторами, которые получают все больше власти. И вообще люди все меньше времени проводят вместе. Американский политический ученый Роберт Патнэм написал известную книгу с красноречивым заголовком «Боулинг в одиночку» о том, что на самом деле боулинг играл очень важную роль в этой самой солидаризации, потому что часто после решения каких-то коллективных вопросов американцы ходили вместе играть в боулинг, ну и выпивать опять же. И просто по данным исследований видно, что сегодня все больше и больше людей играют в боулинг сами по себе. Что, на мой взгляд, довольно странное занятие. Тем не менее. И мы знаем, что даже коммуникация теперь все чаще осуществляется через социальные сети. Так что мы можем подолгу не видеть людей, с которыми на самом деле находимся в интенсивной коммуникации. Это имеет довольно интересные последствия. В результате возникает все больше потенциала для спонтанных, но лавинообразных мобилизаций.
За примерами далеко ходить не нужно. Их очень много в последние годы. #MeToo, #BlackLivesMatters, #OWS. Это несколько, может быть, наиболее известных движений. Все они берут свое начало в Америке, но распространились далеко за ее пределы. Они не похожи на привычные формы коллективных объединений. Они почти никогда не заканчиваются созданием формальных ассоциаций, партий и еще каких-то привычных иерархичных структур. У них есть какие-то устремления, убеждения, цели, но они преследуют их совершенно другими способами. Раньше любая цель такого рода должна была достигаться созданием более или менее институционализированной структуры, в которой есть ответственные лица, на которую можно работать, которая координирована, организована, устанавливает правила членства. Хотя не обязательно быть ее членом, какое-то место в структуре есть у каждого. Сегодня это уже не так. Мы видим, что эти движения действуют практически без всякой структуры. У них есть какие-то лидеры, но они либо случайные, либо быстро меняются, и на следующий день мы про них забываем. И понятно, что дело не в лидерах и не в структурах. Они и координируют сами себя, и понимают сами себя лучше, чем их лидеры. Они совершенно по-другому устроены. Они проносятся ураганом по современному обществу, вызывают у людей сильное чувство причастности к некоему коллективному движению. А потом они могут достигать или не достигать своих целей, но вне зависимости от этого они так или иначе стухают, исчезают или, может быть, трансформируются в какое-нибудь следующее движение.
Мы видим сходные феномены и в России. Часть их приходит к нам из-за границы, и заражение одних обществ другими — это, кстати говоря, еще один очень важный новый элемент, о котором раньше думали очень мало. Раньше казалось, что общество с его проблемами — это такой контейнер, который относительно изолирован от окружающих. Поэтому в рамках первой модели такое заражение нельзя было помыслить. Сегодня мы видим, что они перекатываются, как волна, через границы и подхватываются, модифицируются, меняются в других социокультурных контекстах.
Здесь можно вспомнить не только об этих движениях, но и о тех, которые являются в некоторой степени нашими собственными. Как, например, движение протеста 2017 года, про которое до сих пор пока никто толком не понимает, что это было, но которое тоже носило такой волновой, спонтанный характер. Нет никакой специальной организации. Ее пытаются построить. Может быть, эти попытки приведут к успеху. Но понятно, что это скорее про резкую, внезапную мобилизацию, которую сложно долго поддерживать на одном уровне. И опять же, здесь есть странный, почти мистический элемент инфицирования. Мы с коллегами по Republic даже делали материал, в котором видно, что лозунги, графическое оформление и стилистика протестных движений в разных странах с самыми разными целями — причем иногда с противоположными — удивительно похожи друг на друга. То есть здесь явно происходит неосознанное заражение.
Таким образом, можно сказать, что мир сегодня плавно переходит от первой модели Дюркгейма ко второй. Заметьте, пожалуйста, что не от коллективизма к индивидуализму, а скорее от стабильной институционализированной коллективности к коллективности текучей, спонтанной и мобилизующей. И этот переход от одной модели к другой происходит непросто. Именно с ним и с тем, что он ускорился в последнее время, связано большое количество тревог, которые мы испытываем по поводу того, что происходит сегодня в мировой политике, какие изменения претерпевает сложившийся международный порядок и вообще что будет завтра.
Давайте посмотрим, где во всей этой большой тенденции находится Россия. Если посмотреть на данные международных исследований, то мы увидим, что для россиян, вообще говоря, характерна индивидуалистическая ориентация. Есть международные исследования ценностей — Владимир Магун и Максим Руднев (российские социологи.— “Ъ”) используют данные European Social Survey,— которые позволяют на протяжении длительного времени мониторить динамику ценностей в разных странах. Можно спорить по поводу самого понятия ценностей, я не большой его поклонник. Но, например, Магун и Руднев строят такую модель, которая позволяет на основании нескольких вопросов категоризировать общие ориентации людей. И они их делят на сильную и слабую индивидуалистическую ориентацию, сильную и слабую социальную ориентацию и на то, что они называют ценностями роста. Не сказать, чтобы это была совсем непредвзятая модель, поскольку ценности роста тут стоят отдельно и это то, что явно исследователям симпатичнее всего.
У нас про ценности роста большого разговора не будет, зато можно видеть, как велика в России сильная индивидуалистическая и сильная плюс слабая индивидуалистическая ориентация. Магун и Руднев сравнивают эти показатели с показателями Северной, Западной, средиземной и постсоциалистической Европы, и Россия по всем раскладам выше. Но если смотреть по каким-то конкретным странам, то сильная индивидуалистическая ориентация в России — 26%, в Германии — 14%, в Польше — 13%, в Бельгии — 11%. Если брать сумму двух категорий — сильной и слабой индивидуалистической ориентации, то в России — больше половины, близко находится Испания — 45%, Швеция — 34%, Германия — 26%. Причем обратите внимание, что со временем сумма этих двух категорий только увеличивается.
Другой ключевой показатель — это межличностное доверие, которое как раз никогда не бывает низким там, где сильны коллективные чувства. Это, собственно, любимый показатель того самого Патнэма с его боулингом, которого я упомянул. Снижение интереса к коллективному времяпрепровождению Патнэм напрямую связывает с падением уровня межличностного доверия в Америке. По-русски вопрос формулируется немножко криво, но тем не менее: «Вы считаете, что большинству людей можно доверять, или вы склоняетесь к мнению, что даже излишняя осторожность в отношении с людьми не помешает?» По-английски он звучит гораздо более элегантно: первый вариант — people can be trusted, а второй вариант — we can not be careful. При сравнении ситуации во Франции, Финляндии, Швеции и России оказывается, что в России самый высокий показатель недоверия, то есть легче всего люди говорят: «Нет, ну что вы? Людям нельзя доверять. Что за безумие!» И достаточно редко люди говорят, что в целом, конечно, можно доверять. Это не только наша проблема. Скажем, во Франции тоже достаточно низкий показатель. Ну и понятно, что в условиях низкого межличностного доверия люди заботятся исключительно о собственных интересах. Потому что заботиться о коллективных интересах в ситуации, когда ты никому вокруг не доверяешь, не имеет никакого смысла.
Если взглянуть на дело с точки зрения политической науки, то можно сказать, что ключевой особенностью россиян сегодня является категорическое неверие в возможность коллективного действия. Поэтому так затруднена политическая организация. Есть показатель, который хорошо это иллюстрирует,— ответ на вопрос о том, насколько вы способны принимать активное участие в работе какой-либо группы, занимающейся политическими опросами. По большому счету такой вопрос тестирует готовность человека работать в коллективе. Работать вместе не на свою собственную, а на коллективную цель. И в этом смысле Россия просто рекордсмен. Самый высокий показатель в Европе. 49% — не способны совсем. Еще раз, не у одних нас проблемы. Но настолько масштабные проблемы именно в этой области, пожалуй, именно у нас.
Еще один хороший индикатор — это уровень неравенства. Потому что, естественно, в более коллективистских условиях к неравенству относятся плохо, неравенство стараются контролировать, и там, где сильна солидарность, людям тяжело дается понимание, что когда у тебя есть все, у кого-то рядом с тобой нет совсем ничего. И наоборот, люди крайне болезненно переживают, когда у них нет совсем ничего в условиях, когда у кого-то есть гораздо больше. Причем здесь важны даже не абсолютные показатели, а относительные. Поэтому о солидарности здесь говорить, конечно, невозможно.
Так вот, известный факт, что неравенство в последнее десятилетие в мире в принципе растет, и исключений из этого тренда практически нет, но в странах с высокой солидарностью неравенство в целом несколько пониже. Россия на этом фоне является одним из мировых лидеров. Ведущие исследователи неравенства Филипп Новокмет, Тома Пикетти и Габриэль Цукман (ученые-экономисты.— “Ъ”), которые, собственно, посвятили свои тексты исследованию неравенства в России, показывают, что доля богатства, которым владеют 10% россиян,— около 45%. И это показатель, очень похожий на показатель США, где очень высокий уровень неравенства. Существенно ниже, скажем, Франция, у которой, как мы видели, есть сходные с нами проблемы. Если мы еще увеличим эту картинку и уйдем внутрь этих 10%, то мы увидим, что 1% самых богатых владеет 20% всего дохода. Если мы пересчитаем это в богатство, то там цифры будут еще более впечатляющими — 10% владеют 77% богатства, а 1% владеет 56%. А если мы возьмем из этого 1% только тех, кто является миллиардерами, то они владеют 30% всего богатства. Буквально несколько человек, и мы знаем список, где можно найти эти фамилии.
Еще один важный и довольно интересный индикатор — это религиозность. Все мы знаем, что сегодня в России происходят довольно интересные процессы в области религии. Кто-то даже рискует называть это религиозным возрождением. Вроде как все больше и больше становится людей, которые хотят ассоциироваться с православием. Но исследователи религий, особенно исследователи православия, в этом смысле гораздо более сдержанны в оценках. Потому что по большому счету они пока что видят только увеличение разрыва между декларируемой и реальной религиозностью.
Декларированная религиозность — это когда к вам подходят и спрашивают: «А вы считаете себя верующим человеком?» — и вы говорите: «Да, конечно». Эти показатели действительно растут. Особенно они растут среди православных. То есть все больше желающих говорить: «Да, я — православный». Причем если вы конструируете какие-то дополнительные шкалы и спрашиваете у людей: «Насколько сильно вы веруете?», то они говорят: «Да, да, прямо страшно верую!» Дальше задаешь какие-то простые вопросы, по которым можно оценить то, что называется реальной религиозностью. Коллеги в Свято-Тихвинском университете используют для этого три простых показателя: регулярное посещение храма, регулярное причастие, регулярная исповедь. В общем, это не то, что требует огромных усилий, но при этом показывает, что ты принадлежишь к церковной жизни. И здесь показатели существенно падают. И пока что все возрождение более или менее заканчивается тем, что разрыв увеличивается.
На этом фоне мы видим довольно интересные параллельные тенденции. Это — высокий потенциал ситуативной коллективной религиозности. Ситуация, которая повторяется практически из года в год: в храм привезли мощи, и выстроилась большая-большая очередь. Если бы это произошло однажды, мы бы сочли, что, видимо, действительно привезли какую-то важную реликвию. Но поскольку это происходит из раза в раз и по самым разным поводам, то становится ясно, что уже даже не очень важно, что именно привозят. Находясь в этом коллективном действе, люди получают некоторый важный опыт. Многие из них приехали из регионов, то есть опять же они вырвались из своей повседневной жизни, сломали ее привычный ход и получают коллективный опыт пребывания здесь. Вот что самое важное, что с ними происходит. А не то, что с ними произойдет там. Вы могли бы меня заподозрить в голословных утверждениях, но коллеги провели такого рода исследования. Причем они провели такого рода исследования даже в более чистой ситуации — в очередях в храмы на Пасху. Вроде бы в очереди в храм на Пасху стоят люди глубоко верующие, которые пришли совершить некоторый важный церковный обряд,— но нет. Все то же самое соотношение декларированной и реальной религиозности.
Итак, если мы возвращаемся к терминам Дюркгейма, то это скорее коллективность второго типа, чем первого. С первым типом все как-то не очень гладко, а вот второй тип очень быстро набирает обороты, и буквально в последние несколько лет появилась целая волна такого рода мобилизаций. И мы понимаем, что у них довольно сильный политический потенциал.
Давайте сделаем кое-какие промежуточные выводы. По данным довольно очевидно, что для России характерен провал коллективной жизни, то есть слабость коллективной самоорганизации, постоянные проблемы с нарушением договоренностей — ни с кем невозможно ни о чем договориться, потому что нет межличностного доверия. Те, кто заключал какие-нибудь контракты по сложным рискованным сделкам, знают, что очень часто это происходит в атмосфере глубокого недоверия. Люди готовы подозревать друг друга в чем угодно, в том числе в нарушении тех принципов, которые в принципе невозможно нарушить, постоянно добавляют дополнительные договоренности, условия, форс-мажоры, форс-мажоры к форс-мажорам, форс-мажоры третьего порядка и так далее. Экономисты хорошо знают, что на самом деле длина контракта хорошо коррелирует обратным образом с уровнем межличностного доверия. Потому что если у вас низкое доверие, всегда будут очень длинные контракты, в которых будут прописаны все возможные варианты. И это все равно не поможет.
Мы имеем дело с дисбалансом коллективного и индивидуального — это, пожалуй, самая главная проблема. Недостаток коллективной жизни создает очень серьезный дисбаланс, который приводит к тому, что индивидуализм превращается в атомизацию. Это ситуация, при которой высокий индивидуализм из-за отсутствия компенсации развитой коллективной жизни, точнее из-за отсутствия базы в виде развитой коллективной жизни, приобретает форму агрессивной конкуренции, зависти и, кроме того, усиления центральной власти. Это все типичные симптомы атомизации, то есть симптомы общества, в котором каждый сам за себя, каждый сидит в своей конуре. И понятно, что таким обществом управлять проще всего. Потому что проще всего управлять теми, у кого нет солидарности. Старую притчу о колосках, я думаю, все помнят. Центральная власть всегда пользуется и, в общем, часто умело провоцирует это самое размежевание, атомизацию и превращение индивидуализма в раздробленность. На самом деле все знакомые нам образцы зависти и наступление на права личности, подавление индивидуальной свободы — это как раз результат отсутствия баланса между коллективным и индивидуальным.
Индивидуальный успех в России очень даже ценится. В качестве нормативных примеров, которые нам постоянно даются, скажем, по телевизору, мы видим вовсе не каких-то альтруистов, не людей, которые занимаются самопожертвованием, ничего подобного. В наиболее действенных пропагандистских передачах нам все время предъявляют пример индивидуального успеха. Они могут быть самыми разными, но это примеры успеха. Примеры, на которые нужно ориентироваться. Индивидуальный успех ценится. Но проблема в том, что чужой успех не воспринимается как легитимный, он не признается. Мы как бы не даем право чужому на успех. А это уже симптом отсутствия у нас коллективной базы. Если вернуться к началу сегодняшней лекции, то героиня Нонны Мордюковой — это вовсе не иллюстрация тирании коллектива над индивидом. Героиня Мордюковой — это пример выхолощенности коллективной жизни, пустой зависти тетки-управдома, которая в страхе оказаться проигравшей изображает давление со стороны коллектива, пользуясь для этого властной позицией и какими-то приспешниками, которые у нее есть.
В заключение есть смысл задать вопрос, на который у меня точно не хватит времени ответить обстоятельно. А почему, собственно, так получилось? Фильм 1969 года нам дает первый намек ответа на этот вопрос. По мере ослабевания и завершения советского проекта коллективная жизнь вырождалась и превращалась в пустую маску. То, что называлось коллективом, и то, что сегодня вызывает вполне понятное отвращение у многих людей, конечно, обычно не имело никакого отношения ни к солидарности, ни к общему благу. Это был просто инструмент для отправления административной власти в условиях жестко централизованного государства. А для отдельных людей это был еще и инструмент конкуренции с окружающими — и, как мы видим, довольно злой.
Илья Будрайтскис (историк и публицист.— “Ъ”) сделал очень интересное наблюдение, что примерно начиная с этого времени, может быть, чуть позже, в 70-е и 80-е годы, в советском кино повально распространяется сюжет о героях-следователях, которые борются с экономическими преступлениями. Появляются всякие фарцовщики, спекулянты, и бравые следователи ведут следствия и выводят их на чистую воду. И Будрайтскис говорит, что в этом угадывается молчаливое признание советского общества самому себе в том, что внутрь него на самом деле давно проник этот самый своекорыстный и антисоциальный бизнесмен-индивидуалист, что этот спекулянт — он уже внутри. Он разъедает это самое советское общество. Если там было еще что разъедать.
Алексей Юрчак (ученый-антрополог.— “Ъ”) в уже известной и очень хорошей книге «Это было навсегда, пока не кончилось» пишет, что одной из самых успешных стратегий позднего советского периода было бегство от этой пластилиновой коллективной жизни и от навязывающего ее государства в небольшие кружки и группы, где можно было найти какую-то общность смыслов. Но если говорить о мифах (у нас же цикл про мифы), то из этого мифа о советском коллективизме мы на самом деле до сих пор очень мало знаем о том, как было выстроено реальное соотношение коллективной и индивидуальной жизни в разные периоды существования Советского Союза. То есть по большому счету главная задача социологии в отношении советского общества в общем-то не решена. И это то, чем имеет смысл заниматься сегодня. Социология тогда, понятное дело, была невозможна, поэтому это нужно делать сегодня, чтобы понять, откуда мы происходим.
Но сейчас с нами происходит совершенно удивительная, на мой взгляд, вещь. С одной стороны, мы в голос смеемся и презираем советскую пропаганду, с другой — почему-то странным образом продолжаем верить в то, что она пыталась нам внушить. Например, мы готовы забрать у нее миф о триумфе этого самого сильного и самостоятельного коллектива в Советском Союзе, несмотря на то что она сама, похоже, в это не особенно верила. Во всем остальном мы ей не верим, но в этом почему-то нам критика отказывает. Мне кажется, что сходная ситуация имеет место и в случае с постсоветским периодом. Мы верим в то, что советские институты могли сформировать определенный тип мотивации и ориентации человека, но почему-то отказываемся верить в то, что то же самое могли сделать институты постсоветские. Это парадокс, о котором я говорил в самом начале. Мы готовы признать, что советские институты формировали человека, как пластилин, но почему-то отказываемся видеть последствия действий постсоветских институтов. И они часто преподносятся как совершенно беспомощные и не способные ничего поменять, хотя они существуют уже на протяжении довольно длительного исторического отрезка.
И раз уж мы общаемся здесь в рамках цикла лекций, организованных Фондом Егора Гайдара, то мне кажется, это обязывает нас задуматься о социологической природе этого самого постсоветского транзита. Этого перехода к либеральной демократии, чего, как мне кажется, до сих пор не делалось. Потому что все время по умолчанию считалось, что в социальном смысле этот транзит не был успешен, что советский человек никуда не делся. А раз он неуспешен, то не стоит его и социологически изучать. Он все равно не случился, значит, изучать надо какие-то структуры, которые проходят через исторические периоды. С моей точки зрения, все обстоит как раз наоборот. Этот транзит как раз был вполне успешным. Просто нужно понять, в чем состояло направление его действия.
На мой взгляд, этот транзит к либеральной демократии может быть описан формулой: либерализм без демократии. Потому что все постсоветское время, начиная с команды Егора Гайдара и далее, по разным причинам, которые можно отдельно обсуждать — часть из них носит совершенно объективный характер, часть — идеологический характер,— гораздо больше внимания уделялось таким вещам, как рыночные реформы, экономическое развитие, стимулирование потребления, формирование богатой элиты. Ну и давайте прямо скажем, что эти усилия были успешны. Они были успешны не сразу, но в целом были. Мы имеем достаточно развитое общество потребления, и это хорошо видно по кредитному поведению россиян. Мы имеем богатую элиту, мы имеем относительно устойчивую рыночную экономику, которая даже не особо накреняется под воздействием местами довольно серьезных санкций. В общем, мы все это имеем.
Но в то же время куда меньше внимания уделялось таким вещам, как местное самоуправление, коллективная самоорганизация, общественные инициативы, инициативы снизу, местная власть, подконтрольность властей, развитие общественно важных профессий вроде той же науки и образования, формирование каких-то профессиональных ассоциаций, которые могли бы защищать или представлять интересы людей, работающих в этих областях. Короче говоря, всему тому, на что обращали внимание Токвиль и Дюркгейм и что можно назвать демократическими компонентами. Что, конечно, существует — может быть, не в самом лучшем состоянии, но тем не менее — в странах Европы и Америки. Вопрос о том, каковы истоки нашей сегодняшней атомизации, как она возникла,— это социологический вопрос, который пока что всерьез не решен. И во многом именно он не дает нам разобраться с нашим прошлым, не идеализируя его, не демонизируя его, но взглянув на него трезво и спокойно.
Если все же попытаться заглянуть вперед, то понятно, что основных позитивных сценариев всего два. Это либо восстановление институтов коллективной жизни и коллективной самоорганизации по первой модели Дюркгейма — то, чего не было сделано, и то, в чем мы существенно отстаем. Либо быстрая, мощная и лавинообразная волна коллективных движений, которые мы уже начинаем видеть, которые действуют скорее по второй модели Дюркгейма и которые будут нас менять быстро и непредсказуемо. Кому что выбирать, кому на что ставить — каждый решает сам. Но понятно, что новый мир отличается от старого тем, что в нем по большому счету нужно иметь и то и другое. Спасибо!
Западный индивидуализм и русская традиция
В конце 20-го столетия вновь стала актуальной уходящая вглубь веков проблема взаимоотношения Запада и России как двух великих культурных путей. Понимая гностическую неисчерпаемость темы, сформулируем нашу позицию по отношению к сути и характеру этой дихотомии. Ибо именно здесь, в исследовании традиций Запада и России, сегодня раскрывается философская истина и логика постижения сущности планетарных социокультурных процессов, судьба России, поиск путей спасения её и всего мира, лежит ответ на главные и «вечные» вопросы, сформулированные человечеством.
1. Россия и Запад: мысли друг о друге
Со стороны Запада (Европы) всегда отмечалось устойчивое неприятие России в двух её образах: равновеликой ему геополитической державы и русского человека с его историческим правдоискательством и обретением универсальных смыслов бытия. Не секрет, что одна из основных целей Запада сегодня – не допустить национального возрождения России. Нельзя не видеть этой истины и недооценивать того, что пишут С. Хантингтон, З. Бжезинский, говорят европейские политики.
Чего же так боится капиталистический мир Запада? Сошлёмся на откровенное суждение Хантингтона в работе «Столкновение цивилизаций» (1993): «Конфликт между либеральной демократией и марксизмом-ленинизмом был конфликтом идеологий, которые, несмотря на все различия, хотя бы внешне ставили одни и те же основные цели: свободу, равенство и процветание. Но Россия традиционалистская, авторитарная, националистическая будет стремиться к совершенно иным целям. Западный демократ вполне мог вести интеллектуальный спор с советским марксистом. Но это будет немыслимо с русским традиционалистом. И если русские, перестав быть марксистами, не примут либеральную демократию и начнут вести себя как россияне, а не западные люди, отношения между Россией и Западом опять могут стать отдалёнными и враждебными»1. Проблема поставлена предельно точно и ясно.
Со стороны русских, напротив, это не было отторжением Запада, основанном на чувстве ненависти и вражды. «Критика Европы» не была агрессивным антизападничеством, независимо от того, был ли человек «славянофилом» или «западником». «Мы все европейцы», – говорил такой страстный поклонник православно-русского мессианства, как Ф. Достоевский. Критика Запада была, как верно подчёркивал В. Зеньковский, в значительной степени способом лучшего постижения особенностей русской традиции, духа и культуры русского народа и на этой базе нахождения исторического пути России. Беспощадная критика европейской духовности, вера в особое призвание России соединились со своеобразной любовью к Западу и уважением к его великой культуре. Русское восприятие Запада обречено «вечно» быть противоречивым в силу той экзистенциально-исторической антиномии, о которой Зеньковский писал: «Живучесть и актуальность темы об отношении России к Западу определяется одинаковой неустранимостью двух моментов: с одной стороны, здесь существенна неразрывность связи России с Западом и невозможность духовно и исторически изолировать себя от него, а с другой стороны, существенна бесспорность русского своеобразия, правда в искании своего собственного пути. Ни отделить Россию от Запада, ни просто включить её в систему западной культуры и истории одинаково не удаётся»2.
Приведём некоторые оценки Запада русскими мыслителями, опираясь на материал, собранный Зеньковским. Попав в плен к Западу в ХVIII веке, русские критически отнеслись к «просвещению» Европы. «Божество француза – деньги… корыстолюбие несказанно заразило все состояния, не исключая самих философов… – писал Фонвизин в письмах из Франции, – французы, имея право вольности, живут в сущем рабстве… невежество дворянства ни с чем не сравнимо…»3 Одоевский писал в 1823 году: «То, что Чаадаев говорил о России, я говорю о Европе – и наоборот»4. На стороне Одоевского была тогда вся культурная Россия. Гоголь звал Запад к религиозному покаянию. В середине ХIХ века критика Запада «славянофилами» и «западниками» была развёрнута со всех точек зрения: философской, религиозной, эстетической, политической, социальной. Все они говорят о кризисе западной культуры, стараясь избежать ошибок Запада в философско-духовном развитии России. Они подчёркивали, что западный человек в сущности подменил духовность рациональностью, христианский гуманизм – секулярным, «вольтеровским». «На Западе, – пишет К. Аксаков, – душа убывает»5. Славянофил Хомяков пишет уже о «пустодушии» европейской культуры. Западник Герцен ужасается «духовным бесплодием» западного человека: «С каким-то ясновидением заглянул я в душу буржуа, в душу рабочего и ужаснулся… Куда ни посмотришь – отовсюду веет варварством – снизу и сверху, из дворцов и из мастерских… Современное поколение имеет одного Бога – капитал… Наше время – эпоха восходящего мещанства и эпоха его тучного преуспеяния»6. Данилевский в отличие от других русских мыслителей не критикует западный дух в его онтологических основах. В своём учении о культурно-исторических типах он борется с европейским мессианством, которое считает свою культуру единственно истинной, «общечеловеческой», и по этой причине Европа агрессивна, пытается навязать свою культуру другим народам, подчинить и подавить чужие культуры. Интересно отметить, что в итоге анализа славянского типа Данилевский пишет: «Особенно оригинальной чертой славянского типа должно быть в первый раз имеющее осуществиться удовлетворительное решение общественно-экономической задачи»7. Эта мысль была потом развита у народников (Михайловский и другие), Л. Толстого, Бердяева, евразийцев, в русском марксизме (Плеханов, Ленин и другие). К. Леонтьев прямо говорит о вырождении Западной Европы. С позиций своего эстетического аристократизма и культа силы (как позже Ницше) он пишет: «…средний рациональный европеец в своей смешной одежде… с умом мелким и самообольщённым, со своей ползучей по праху земному практической благонамеренностью… Возможно ли любить такое человечество?..»8. Евразиец Н. Трубецкой указывает: «…европейская цивилизация производит небывалое опустошение в душах европеизированных народов, в то же время непомерное пробуждение жадности к земным благам и греховной гордыни являются верными спутниками этой цивилизации»9. Л. Толстой, Достоевский, В. Соловьёв, Фёдоров, Бердяев главную «неправду» Запада справедливо видели в «неправде» общественного строя и того «исторического христианства», которое «предав И. Христа», освящало и охраняло западную традицию.
Таким образом, пережив к тому же тотальный разлом народной жизни в жуткое «чёрное десятилетие», мы можем лучше понять, что главной причиной культурно-мораль-ного кризиса («заката Европы») явилось не «отвержение Бога» европейским человеком и поклонение «обезбожен-ному человеку как Богу» («путь человекобожества»), о чём писал, в частности, И. Аксаков в 80-х годах ХIХ века, а бытийные начала буржуазного духа (сущностью которого являются индивидуализм, частная собственность, духовное отчуждение человека). Критика Европы не только как секуляризованной, но как «буржуазной» (Белинский, Герцен, Чернышевский, народники, Сорокин, Фёдоров, Бердяев, евразийцы, русские марксисты и другие) была более точной и продуктивной. В этой «борьбе с Западом» (теоретически) открывались пути России. Россия не должна и не может повторить буржуазно-индивидуалистический путь, но на основе усвоения, заимствования всех великих материальных и духовных достижений Европы, синтеза её культуры и своей идти самобытным путём в границах русской традиции, в соответствии с социально-нравственным идеалом русского духа – таков основной вывод русской мысли на протяжении двух столетий. Можно утверждать, что вся история России есть не что иное, как борьба за Традицию, за возможность жить, как велит русский дух.
2. Традиция как философская категория
У нас до сих пор широко распространены, за редким исключением, концепции, особенно в конкретных науках10, в которых традиция осмысливается как «отвлечённое начало», как способ принудительной, стандартной, шаблонной организации жизни какой-либо исторически возникшей общности людей. Традиция как консервативный, застывший «опыт прошлого», объективированный в виде жёстких стереотипов и образцов мысли и поведения («паттернов», по выражению К. Юнга)11. В такой интерпретации это понятие противопоставляется «живой», «настоящей» и «органической» жизни, например, народа. В отличие от этого мы считаем онтологической сущностью Традиции – антропоцентризм. Традициология есть антропология. Человек является смыслонесущим центром традиционного национального бытия, а традиция – функция самоопределения человека. Собственная историческая сущность индивидуального и общественного бытия человека, проявляющаяся в его эмпирической истории, и есть Традиция. Она есть с нашей точки зрения живой и органический канон человеческого бытия, в котором исторический человек находит устойчивую опору (гарантированное бытие) для материального и духовного существования, обретает чувство «достоверности бытия», доверие к жизни; находит свои предельные экзистенциальные смыслы и интересы (что становится приоритетной, свободно принимаемой системой ценностей и потому становится для него высшим авторитетом, священным), эталон должного поведения; осмысливает свою жизнь, находит объединяющий «центр жизни» (прежде всего духовной), каковым для него являются убеждения и верования своего народа и свои собственные, а также основные культурные ценности. В итоге это позволяет исторически действовать человеку в меняющихся социальных и природных обстоятельствах в соответствии с духом своего народа и даёт ему возможность оставаться, быть самим собой. Традиция – не антитезис творчеству исторического человека. Напротив, в ней отражён объективный смысл развёртывания в истории национального духа, мотивируется с учётом национальной культуры целеполагание, набор средств и содержание его деятельности. Традиции не «следуют», её не «соблюдают» – в ней человеческий индивид живёт в меру доступной ему полноты человеческого бытия. В традиции отражается (и закрепляется в ритуале) «кристаллизованное богатство» бытия человека и народа. Традиция не есть внешняя, феноменальная социальность человека. Речь идёт о сущностных первоосновах (в том числе и морально-нравственных) общественной ткани любого социума. Традиция – это метафизическое основание бытия культуры, антропологический костяк, дух и тело культуры, язык бытия, сущность человеческой онтологии. Человека нельзя «научить» традиции, как таблице умножения. Каждая традиция фиксирует основные, всегда конкретно-исторические мировоззренческие и ментальные установки «человеческой экзистенции», осмысленные на основе своего «культурно-исторического типа» (Данилевский), специфики «своей» цивилизации. Естественно, говоря о духе народа, мы имеем в виду его умопостигаемую сущность, а не все эмпирические формы проявления национального духа.
Схожие взгляды развивает В. Кутырев, который рассматривает традицию как факт «передачи» бытия, противоположностью которого может быть только его утрата – ничто. «Традицией можно называть, – пишет он, – область сохранения меняющихся характеристик любого предмета, когда он рассматривается как социокультурный феномен. Традиция – это проявление универсалий бытия, иммунная система общества, фундамент и субстанция культуры. Проблема традиции является социокультурной формой проблемы сохранения сущности чего угодно. Это проблема идентичности, тождественности, самости и самобытности явлений»12. Обозначив методологически наш философский принцип традиции как судьбы человека и народа, попытаемся выяснить ключевые особенности европейской и русской традиций.
3. Западный человек
Сущность западного человека европейской традиции заключается в либеральном индивидуализме как базовом принципе организации жизни общества. Именно в нём сокрыты причины и духовного взлёта, материального прогресса, и того глубочайшего духовного падения, доходящего до отторжения гуманизма, которое происходит на наших глазах.
Концепция индивидуализма оформилась в эпоху Возрождения и получила философское обоснование в Новое время, утвердив самоценность индивидуальной человеческой души, её принципиальную несводимость к другим смыслам и ценностям бытия. Однако закономерно эволюционируя от аристократизма и представая как рефлексия эгоизма буржуазного человека, эта позиция утратила своё изначальное прогрессивное значение. «Личность» эпохи Возрождения и отчасти Просвещения в результате социальной трансформации (главным образом религиозной реформации, ранних буржуазных революций в Западной Европе, секуляризации европейской науки и культуры) переродилась в «индивида» (индивидуума), на основе которого организуется «гражданское общество». Человеку в таком обществе нет надобности в поисках внеэкономических смыслов, он становится мыслящим деятельным прагматическим индивидом, активность которого обращена во внешний мир в целях его познания, преобразования и подчинения. В этом – суть духовного наполнения современной европейской традиции. В сообществах людей такого типа личность не может быть ни воспроизведена, ни сохранена. Индивид – это «единственный» (Штирнер), «одномерный» (Маркузе) человек, тогда как личность – это целостный человек, стремящийся к духовным (метаэкономическим) основам человеческого общежития, в частности любви к человеку и справедливости – этой сути гуманизма, позволяющей человеку духовно возрастать, находить в себе человека13. Капитализм оказался враждебным личности и потому он похоронил старую веру аристократического индивидуализма в человека, основанную на «теории естественного права» Руссо, Канта, Фихте и на признании благой, доброй и справедливой природы человека. Сейчас плохо воспринимается ссылка на К. Маркса. Сошлёмся на его принципиального критика Бердяева, который отмечал, что личность человека в европейской традиции дегуманизируется и деградирует в своих универсальных основах бытия, указывая причину этого: «…нет начала более враждебного личности, чем пресловутая буржуазная собственность и буржуазное право наследства»14. Именно циничный эгоцентризм и бездуховный солипсизм, ставшие главной ментальной ориентацией западного человека, являются основой разрушения личности. У нас Достоевский точно воспроизвёл аналог психологического строя «индивида» в своих «Записках из подполья». «Свету ли провалиться или мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтобы мне чай всегда пить», – так говорил «подпольный» человек у Достоевского. Вопрос «о чае» – философский, этический15, который западный человек решает как индивидуалист – он стремится быть маленьким суверенным божком, отъединённым от других людей и общества правовой безличной регламентацией человеческого бытия, ничему не поклоняться и ни перед чем не благоговеть, кроме рынка, буржуазного потребительского духа, гедонизма. Это происходит ввиду того, что духовная жизнь личности востребывается промышленностью не целиком, но лишь как функция капитала, как индивид, теперь – как носитель информации. Всё остальное из области духа за ненадобностью постепенно атрофируется. Производственно-потреби-тельская активность омещанившейся человеческой жизни, исключительно материальный этос привели к примитивизации духа. Начала же социализации, коллективизма, прорывавшиеся в Европе в виде социалистических движений, были использованы односторонне – буржуазно эгоистически вывернуты, смяты и отброшены. На смену им пришла индивидуалистическая тотальность нации и союзов наций, устремившихся к реализации своей жажды власти16, в ХХ веке превращая в одномерного индивида целые общества, нации: люби только свой народ, своего вождя, добивайся власти над другими – вот причинная цепь развития метафизики индивидуализма, находящего своё социальное подкрепление в маргинальных слоях населения, в чеховском «мещанине», собственнике-буржуа, оставшемся «в футляре» повседневной посредственности. Даже справедливость понимается как согласование (баланс) принципов и интересов (инстинктов мещанина)17. Но это уже – не истинная справедливость.
Этот индивид, в который переродилась личность Возрождения, абсолютно неправомерно унаследовал её установку: «я – центр мира, самый лучший, властный сверхчеловек», сделав этот принцип опасным для всего человечества. Западный человек (и в США, и в Европе), подобно штирнеровскому «единственному», хотел бы весь мир сделать «своей собственностью». Но на практике каждый раз после такой безумной попытки он вынужден испытывать иллюзию «пирровых побед», оставляя Европу со «свобо-дой, покоящейся на небытии, с духом …опустошённым» (Бердяев). Этому способствует и природа пресловутой европейской демократии – ведь и древнегреческое, и древнеримское, и современное европейское общества, основанные на человеке-гражданине (индивиде), а не человеке-личнос-ти, жили и живут за счёт плоти и крови других – рабов, илотов, наёмных рабочих, колонизированных народов. Прямое или косвенное рабовладение есть alter ego западной демократии, принцип её бытия. Всё это – закономерный путь развития индивидуализма, как бы возвышенно он ни начинался в момент своего становления.
Итак, современный западный человек «родился» от индивидуалистической традиции, которая реализовала изначальный посыл христианства (тайна и проблема человека в том, что он не человек) в пользу материального бытия человека, для которого отчуждение от человечности, человеческого целостного духа и стало «гарантированным бытием». Только перестроившись таким образом, западный человек смог выжить в период кризисной трансформации европейского духа в Новое время. Художественным символом этой «смены умов» стала фаустовская душа «человека-гражданина», пытавшегося в своей химической реторте увидеть зародыш появления нового человека, та душа, которая, по мнению Шпенглера, была сутью европейского человека. С. Булгаков так писал о сущности западного материального этоса: «С ростом богатства мир всё более становится хлопочущей о многом Марфой, и невольно забывается скромная Мария со своим «единым на потребу». Антагонизм между материальной и духовной цивилизацией неискореним, и мещанин всегда будет удерживать свободный полёт человеческого духа»18.
Европейский индивидуализм, его тип рациональности и разумности (а точнее – рассудочности) в конце ХIХ–начале ХХ века подорвал веру западного человека в абсолютную мощь разума, породив свою компенсаторную реакцию – дух позитивизма, который усилил идеал индивидуализма с его экзистенциальной замкнутостью и самоизоляцией. Для позитивистского духа жизнь человека полностью тождественна человеческому существованию, не имеет никаких метафизических и таинственных смыслов. Для позитивиста никаких «тайн» и «загадок» в человечности (и бесчеловечности) нет. «Люди – те же лягушки, только на двух ногах, – считал Базаров, – …изучать отдельные личности не стоит труда… Достаточно одного человеческого экземпляра, чтобы судить обо всех других. Люди, что деревья в лесу…»19 Позитивист похож в этом отношении на язычника, для которого человеческая жизнь не проблема, а «просто жизнь», которую надо прожить, как положено, достойно. В позитивистской традиции в понимании «просто жить» (достойной жизнью) ослаблены многие ценности гуманизма (поли-тические, правовые, эстетические, нравственные и т. д.20). Духовность окончательно переродилась в рациональность; «странная жизнь» (А. Блок) перестаёт быть традицией. Реализация потенций прагматического разума, подчинение посредством него всего мира Европе и обретение на этой основе ощущения достоверности человеческого бытия стало важнейшей особенностью формирования европейской традиции, метафизически-гносеологические корни которой можно суммировать так: всё должно быть организовано согласно порядку прагматичной разумности. Жёсткая регламентация поведения личности, поддерживаемая традициями протестантизма и позитивизма, управляемость жизни общества, становятся нормой жизни европейских народов – экономической цивилизации.
Однако при этом, как доказывает современная история, становится неуправляемым стратегическое развитие (с удалёнными целями), оказывающееся подчинённым законам сиюминутной выгоды – рынка. Прагматизм и рациональность всё чаще становятся неразумными, неадекватными дальней стратегии и экзистенциальной ситуации. Ибо такому «разуму», примитивизировавшемуся до простейших арифметических операций – плюс-минус, умножить-разде-лить (все остальные потребности разума и духа поставлены в услужение этой финансовой арифметике) – и доводящему позитивистский дух до уровня «Абсолюта», стало всерьёз казаться, что весь мир предельно прост и подвластен законам арифметики. Чистой кантовской морали теперь нет места – мораль, гуманизм остались (в лучшем случае) на уровне индивидуальности, перестав быть регуляторами общественной жизни, утратив механизмы воздействия на социальные процессы и институты21. Могущественные социальные организмы (в особенности политические и финансовые) стали аморальными и антигуманными, оказываясь опасными для человечества и угрожая антропологической катастрофой – поскольку понятно, что гуманистическая катастрофа есть преддверие катастрофы антропологической. Произошло эпохальное поражение европейского человеческого «Я», бывшего предметом размышлений в философии Нового времени у Фихте и Канта, создавших величественный, возвышенный миф о человеке как свободном, моральном, деятельном существе. В реальной истории, особенно в ХХ веке, европейский человек действовал вопреки идеалам этих философов. Он их предал. Он остался глух и к мудрым предостережениям своих великих писателей (Торо, Эмерсона, Гамсуна, Голсуорси, Киплинга, Ивлина Во, Фолкнера и др.), писавших о «буржуазной порочности» западного человека, духу которого стала чужда евангельская мораль любви, милосердия и сострадания, нестяжательства. Ибо кризис европейского гуманизма выразил суть бытия индивидуалистического социума, основанного на общей либеральной интенции: «позволяйте делать (кто что хочет), позволяйте идти (кто куда хочет)». Исторический человек в западной традиции освободил себя от идей европейского гуманизма с его идеалом – человечный человек, пошёл по пути социального и военного насилия и себя, и других, причём насилия не с помощью идей (российский вариант), а с помощью вещей и оружия (западноевропейский вариант). Даже сам гуманизм европейского обывателя (индивида) чужд «милости к падшим» (бедным и униженным), он планируем и расчётливо-холоден, легко превращается в свою противоположность – антигуманизм.
Вообще говоря, гуманизм любви к человеку и «разума сердца» в Европе всегда бытийствовал в локальных социально-духовных нишах – либо привносясь христианско-евангельской верой (Ф. Ассизский, Мать Тереза, М. Л. Кинг), чуждой индивидуалистической рациональности, либо ищась во вне – то в индийской духовности (Шопенгауэр, Гессе и многие другие), то в русском духовном опыте Толстого, Достоевского, Рериха (А. Швейцер, К. Льюс и др.). Полагаем, что принципы гуманизма, всегда бывшие на обочине европейской рассудительной прагматики, формально удержались до середины ХХ столетия как результат испуга фашизмом. Но теперь антигуманизм вышел на арену в полный рост – как обратная и сущностная сторона рациональной прагматики. В локальных военных конфликтах конца ХХ столетия западный человек так низко пал, что если после второй мировой войны среди интеллектуалов Европы возник вопрос: «Можно ли после Освенцима верить в Бога?», то сейчас впору задать вопрос более радикальный: «Существует ли Бог?», вопрос, на который исторический человек всегда будет давать разный ответ. Высветился и сделался актуальным и кантовский вопрос: «Су-ществует ли в действительности человек?». США и европейские страны в локальных войнах конца ушедшего столетия умножили цену исторического антигуманного деяния «трансцендентального субъекта» ХХ века, которая и без того страшно велика, не может быть ни оправданной, ни искупимой. «Если мы, – писал Фолкнер, – в Америке дошли в развитии нашей безнадёжной культуры до того, что вынуждены убивать детей, каковы бы на то ни были причины… мы заслуживаем гибели и, очевидно, погибнем»22.
Крушение великой европейской гуманистической идеи23, ставшее особенно очевидным после событий в Югославии, быть может, становится последней вехой в развитии западной культуры. Поскольку теперь сама Европа, не прикрытая ни одеждами нацизма, ни жупелом американизма, своим ядром, в виде стран, породивших великую европейскую культуру и давших миру Леонардо да Винчи, Декарта, Гёте, Канта, Маркса, Бетховена, Швейцера, выступает как империалистическая «союзная сила» под циничными предлогами «предотвращения гуманитарных катастроф», «нарушения прав человека» и тому подобными лицемерными лозунгами. Европейский империализм, о бесчеловечной агрессивности которого писали многие русские и европейские мыслители, открыто встал на путь антигуманизма. Европа, принесшая миру образцы высочайшего взлёта человеческого духа, отвернулась от идеалов гуманизма. Здесь уместно вспомнить бердяевское: Бог человечен, человек бесчеловечен. Эгоистический псевдогуманизм обретает своё истинное лицо, перерождаясь в ксенофобию, лицемерную политику двойного стандарта. О таком «гуманизме» так пишет известная публицистка К. Мяло: «Какая уж тут Герника, какой Пикассо – полное нравственное бессилие, сопровождаемое таким же культурным бессилием»24. Потому что индивидуализм не может быть основой истинного гуманизма – гуманизма и для себя, и для другого (для всех), основой которого (и одновременно идеалом человеческой духовности во все эпохи) были жертвенность, служение иному, будущему, долгу.
Таким образом, социальное отчуждение человека, бывшее предметом размышлений марксовой философии, через индивидуализм достигло своей предельной ступени – «че-ловеческого одиночества». Основные экзистенциальные характеристики этого нового феномена, которого не знал западный человек до капитализма, глубоко осмысливались на Западе Кьеркегором, французскими экзистенциалистами, такими писателями, как Гессе, Кафка, Музиль, Фолкнер, Апдайк. Чувство абсолютной покинутости, оставленности Богом, людьми, обществом, утрата экзистенциальных опор жизни (парменидовской интуиции Бытия) – вот суть понятой ими эволюции кризиса европейской идеи гуманности и индивидуализма. Напротив, антигуманность становится опорой (гарантией) устойчивого и надёжного существования во всех социальных слоях западного общества. Мир оказывается страшен не оружием даже, а вывертом смыслов. Потому отчаяние у честного труженика на Западе вызывают не столько «рыночные» законы, по которым приходится жить, а то, что исчезло бывшее духовное и психическое пространство, в котором он жил до них. Заметим, что с этим мироощущением сейчас столкнулся российский человек, что подмечено в романе М. Бутова «Свобода»25. Главный герой романа хочет обрести достоверность бытия, где все и вся (вещи в том числе) являются «самоё себя». Итог же трагичен – «взгляд на жизнь» с позиций сумасшедшего состояния. Можно утверждать в итоге, что в буржуазном обществе произошло не просто отчуждение от человека продуктов его материальной и духовной деятельности, но отчуждение человека в предельном смысле – человек становится чужим самому себе, своей традиции, своему бытию, человеческому в человеке.
Можно ли спасти классический европейский человеческий Дух – Дух Прометея, а, следовательно, другие культуры от бесчеловечности современного западного человека? Мы не знаем ответа на этот вопрос. Возможно, его вообще нет. Но, далёкие от апокалиптики, приведём два факта. Современный учёный-американист О. Платонов, анализируя состояние американского духа, делает вывод: Америка фатально обречена, и поэтому она в ближайшие десятилетия погибнет (по данным института Харриса, лишь 17% американцев готовы отстаивать традиционные американские ценности, связанные с достижением более высокого уровня материальной жизни, а 66% – предпочли бы создание более гуманного образа жизни)26. А вот «новый взгляд на открытое общество» Дж. Сороса, пытающегося спасти своей критикой общие принципы либерализма. Он считает, что западно-либеральная система тоже рискует погибнуть от …рационалистического индивидуализма, «если наша система не будет скорректирована признанием общих интересов, которым следует отдать предпочтение перед интересами частными»27. В чём же спасение?
4. Русская традиция
Сначала отметим, что, как и в любом другом типе национальной духовности, в русском духе, русской традиции есть свои достоинства и недостатки, неотделимые друг от друга – ибо нет идеальных или, наоборот, порочных культур. Это особенно важно подчеркнуть, если мы говорим о характере русского народа в его антиномичности, о чём писал в своё время Бердяев28. В своей противоречивости это и есть та самая таинственная русская душа, которая освоила евразийский континент и принесла на него мир и спокойствие. Об этой необъятности, безмерности и полярности русского национального типа Достоевский устами Дмитрия Карамазова заметил: «Широк человек, я бы сузил». Русским народом, считал Бердяев, «можно очароваться и разочароваться, от него всегда можно ждать неожиданностей, он в высшей степени способен внушить к себе сильную любовь и сильную ненависть. Это народ, вызывающий беспокойство народов Запада»29.
«Русская идея», на наш взгляд, есть комплексное понятие для обозначения характера русской традиции и её состояний. Она представляет собой целостность, которая включает в себя идею-дух (идею-смысл) и идею-цель. Русская идея как дух и смысл метафизична и по-разному реализуется в различные эпохи, обретает конкретные земные формы (идеи-цели), но никогда полностью недостижима. Каждая идея-цель как конкретно-историческая форма идеи-смысла безусловно есть её проявление – и потому утрата всякой социальной формы каждый раз столь трагично воспринимается русскими мыслителями, русской душой. Но ни одна конкретная историческая форма идеи-смысла в действительности не есть её единственный или окончательный вариант, её нельзя считать полностью реализованной в какой-то конкретной социальной форме. Идея-дух ищет себя, одновременно стремясь к уничтожению всякой, им же порождённой, социальной формы, не обретая себя в царстве земном, всегда оставаясь в царстве духовном. Каждое земное утверждение русской идеи – результат очередной, лишь временной победы «царства кесаря» над «царством духа», вновь и вновь взывающее дух к творчеству и борьбе. Причём всякая идея-цель определяется идеей-смыслом, принципами организации духа (традицией) и жизнеспособна лишь в том случае, если отвечает ему. С другой стороны – качества самого духа во многом определяются формой очередной реализации, земным способом осуществления бытия духа.
Базовые метафизические принципы организации духа русского народа, русской идеи известны и нет оснований для их пересмотра: коллективизм, братство; в сфере духа – соборность, духовная община; державность и патриотизм; высокая духовность, правдоискательство, доходящие до свободы от материального своекорыстия; свобода духа, доходящая до анархичности; социальная справедливость, основанная на добре и правде; дионисичность, мессианство и безудержная творческая активность духа, его стихия и противоречивость; терпеливость, значительный консерватизм как восточная традиция; этика любви и коллективного спасения; благородство и великодушие, всепрощение и жертвенность; сила духа, способность к гигантской концентрации физических и духовных усилий; мужество и самопожертвование во имя правды или «общего дела». Эти принципы существуют как органическая система, отличая русских в их мировоззрении, культуре, психике от других мировых культур. Социально-духовная бытийная явленность этого комплекса в историческом пути русского народа, России и составляет то, что мы называем русской традицией, являющейся смыслом и содержанием «русской идеи». В ней (в традиции) раскрывается сущность (природа) русского народа.
Основанием социализации русского духа является коммюнотарность, которую блестящий гений Бердяева раскрыл как коренное свойство русского народа, сущность его общинного сознания, как свойство, противостоящее индивидуализму и буржуазности духа, германской идее господства и могущества, есть желание братства людей и народов30. «Русский народ самый коммюнотарный в мире народ, таковы русский быт, русские нравы», – совершенно справедливо писал Бердяев31. Многими другими русскими философами (С. Трубецкой, Флоренский, С. Булгаков, Франк, Лосский) и писателями также подчёркивалась способность русского человека к непосредственному единению душевной жизни через «чуткое восприятие чужих душевных состояний», «открытость души в отношении к чужому «я»»32. Коммюнотарность – толкатель русской души, который дополняется страстностью и могучей силой воли, исканием абсолютного добра и «жизнью по сердцу», максимализмом и порой неумеренным употреблением силы, умением замечать и побеждать свои недостатки и любовью к красоте33.
Сущностью социального бытия русской традиции является коллективизм, который выступает не просто как вид социальности, но как тип мировоззрения и ментальности, традиции, порождающей свой тип человека. Это такая альтернатива, которая в принципе противостоит несправедливости и неравенству, отрицает рабство одного человека перед другим. Коллективизм – естественный способ организации человека в обществе. И не только потому, что большинство индивидов несовершенны, но также по причине сниженного потенциала созидательности социального порядка в демократических сообществах (что поняли уже древние). Всякая попытка доказать преимущества индивидуализма на уровне абстрактных теоретических рассуждений – декларируемых свободы, равенства возможностей, беспристрастности права и прочих внешних красот демократии – не выдерживает критики и опровергается самой жизнью. История доказывает, что без большой коллективно значимой цели человек перестаёт быть человеком, возвращаясь к животному состоянию. Индивидуализм предстаёт как примитивизация высших форм человеческой жизнедеятельности, направленной на поглощение созданного, пользование сущим и деконструкцию организованных форм сущего. Коллективизм есть более высокий уровень организации человека, способный (кроме всего прочего) порождать, обусловливать надындивидуальные цели и ценности, становясь гарантированной защитой от обездушивания и прагматизации разума. Именно в коллективизме (и только в нём) создаются условия для диалектического преодоления антиномии «мир для меня» – «я для мира» на основе холистского видения: «я вместе с другими для мира». Принцип целостности бытия, целостности человеческого духа (кроме идеи Бога; он, по нашему мнению, единственный Абсолют в мире) становится здесь метафизической основой организации человеческой жизни, способной преодолеть современную «раздробленность» духа. Только целостность как принцип организации коллективистской общности («соборность» у Хомякова, «всеединство» у В. Соловьёва, «коммюнотарность» у Бердяева, София-«целомудрие» у С. Булгакова) способна стать средством для тех, кому «нужно, чтобы человек был хорош» (Бахтин). Только коллективно человек способен любить, миловать, спасать, созидать. Ибо здесь на первый план выходит не эгоистическая любовь к себе, но любовь к другому – христианская «любовь к ближнему» и русское развитие этого – «любовь к дальнему» в пространственном и временном смыслах (дальнему географически, дальнему-прошлому, дальнему-будущему).
Далее. В русской традиции не является сакральной частная собственность. Мироощущение русского человека никогда в истории не возводило историческое право собственности в «естественное право». Напомним, каким убеждённым противником купли-продажи земли был Л. Толстой. «Всемирно-историческая задача России, – пишет он, состоит в том, чтобы внести в мир идею общественного устройства земельной собственности. Русский народ отрицает собственность, самую прочную – земельную». Собственность не благо, а зло, грех, отступничество от евангельского Христа, который её судил. Поэтому «душа России – не буржуазная душа» (Бердяев). Главным в учении о человеке в русской философии, заметил А. Лосев, был социализм34. Это – общая тональность всей русской мысли за прошедшие два столетия.
Антибуржуазность русской традиции, нелюбовь русских к богатству, социалистический национальный идеал35 связаны с тем, что русская душа – не позицивистка. Русский человек не может полюбить жизнь прежде её смысла. Когда утрачивается смысл, выходящий за пределы материального бытия, он не хочет трудиться над общественным и личным благоустройством. Для русского человека жизнь полна сакрального, мистического смысла, нацеленного на поиск «потаённого бытия», скрытого смысла вещей и человеческих явлений. Этот метафизический (магически-пота-ённый) смысл явлений мотивирует поступки русского человека, те, которые противоречат здравому смыслу, эмпирическому опыту, но ведут к прорыву в новую духовную реальность. Сошлёмся на героев русских народных ска-зок – Ивана-дурака, Емелю, «чудиков» из рассказов В. Шукшина. Как правильно пишет великий русский советский писатель А. Платонов, русский человек «каменный, ещё зеленеющий мир превращает в чудо и свободу». В своей волшебной любви к революции и женщине Степан Копенкин в «Чевенгуре» ревниво осматривает куст, так ли он тоскует по Розе Люксембург; в противном случае он ссекал куст саблей. Незначительные, обыденные смыслы русскому человеку не нужны. «Всё есть, а вместе с тем ничего нет», – чисто русское восприятие нынешней российской смуты. «Утратив цель и смысл бытия, российской душе трудно, непривычно (и даже неприлично) истово заботиться о нуждах тела, – пишет А. Неклесса. – Трудно обустраивать мир, в котором нет великих далей… Отсюда, по-видимому, мелкость обсуждаемых в России тем и замыслов, почти сплошь экономических, вернее сказать, экономистических, ибо их показной экономизм – симулякр, скрывающий нищету и растерянность голого прагматизма»36. Правильно подметил Бердяев – русскому народу свойственно философствовать, «русский безграмотный мужик любит ставить вопросы философского характера – о смысле жизни, о Боге, о вечной жизни, о зле и неправде, о том, как осуществить Царство Божие»37.
Другой сильнейшей интенцией русского духа, не терпящего духовного насилия и легче переносящего насилие социальное, насилие над своим телом, является свободолюбие. Так, Ф. М. Достоевский противопоставлял русскую идею, основанную на совести и свободе духа, римской идее, основанной на принуждении духа, на насилии законов и условностей общества, порядка, организации – над духом38. Однако свободолюбие сосуществует со специфическим пониманием державности. Русский народ – народ державы. По большому счёту, смысл и цель русского духа, стержень установок России – охрана огромного евразийского пространства от разрушения, разграбления и уничтожения природы человеком, обустройство Евразии и сохранение её единства и стабильности, континентальная ответственность за Евразию, основанная на толерантности, уважении и любви к иным культурам и признании их самоценности, на коллективной защите. И при этом «русский народ, по духовному своему строю, не империалистический народ»39. Государство само по себе для русского не самоцель (особенно, когда оно есть, когда оно крепко, обеспечивает спокойствие и благополучие; как не замечается тело, когда ничего не болит). Проблема государства выходит на первое место лишь тогда, когда что-то ломается и мешает духу жить. Истинным устремлением было всегда и остаётся сейчас царство духа, мировая империя духа, но не империя пространств, которая есть лишь необходимое средство40.
В нашей литературе в основном обращается внимание на авторитарный принцип организации исторической российской государственности. Нам же хотелось бы подчеркнуть не политический, а философский аспект – идеократический способ государственного объединения русских людей. Российское государство без национально-мессианской идеи, направленной как «во вне», так и «внутрь» – исторически никогда не существовало. Власть российского государя всегда распространялась и на души русских людей, беря ответственность не только за их материальное благополучие, но и за «спасение» их душ. Идеократия была источником эксплуататорского характера российского государства, чем оно исторически отличалось от западноевропейских. Отсюда анархизм в русской душе по отношению к русскому государству (как к насилию и уже потом – злу), которое, однако, всегда в конечном счёте преодолевается уважением к нему (потому что государство как принцип – благо). Правильно понятая философия российского государства позволяет отличить так называемый «советский тоталитаризм» от западной антирусской (антисоветской) его интерпретации. Приведём точные, на наш взгляд, слова: «Что такое тоталитаризм? Это мобилизация всех сил, – пишет С. Куняев. – Это подчинение личной воли – народно-государственной необходимости, это табу на все излишества, варианты, версии, эксперименты в материальной и духовной жизни. Это ограничение права во имя долга. Вообще вся русская жизнь – это не жизнь права, а жизнь долга. Поскольку великое русское государство рождалось и жило в экстремальных исторических условиях, на тех широтах, где невозможны великие цивилизации, возникло, как «пламя в снегах», и где его рождение и развитие потребовали от народа и его вождей столь нечеловеческого, тоталитарного, мобилизационного напряжения на протяжении сотен лет, а значит, такого рода постоянный «тоталитаризм» есть естественное состояние русской жизни и русской истории. И для нас сей термин не должен быть каким-то пугалом. Без «тоталитарной прививки» к нашему историческому древу мы не могли бы существовать»41. И не сможем, добавим мы. Альтернатива одна – разрушение и уничтожение страны, а через это – и каждого человека (личности) в отдельности. Звёздным часом российской державности поэтому был советский период нашей истории. Разрыв русской традиции произошёл не в 1917, а в 1991 году. «Я считаю советский период, – справедливо убеждён А. Зиновьев, – вершиной российской истории. Не будучи апологетом коммунизма, я считаю этот период поистине удивительным. Пройдут века, и потомки будут с изумлением, с восхищением изучать это время, поражаться, как за удивительно короткий срок в стране, жившей в кошмарно трудных условиях, было сделано так много. Да, было и много плохого, были преступления, ошибки, разочарования. Но всё равно это была величайшая эпоха в истории России и один из величайших феноменов в истории человечества»42. Лучше о пассионарности русского духа не скажешь!
Этика русского духа в существе своём есть этика коллективного спасения, любви и активного добра, совести как коммюнотарного регулятора, этика справедливого воздаяния, сбережения нравственного бытия, самоотвержения, всепрощения, всеединства, уважения к иному. Моральное сознание русских (как хорошо показал Достоевский) – это и сознание страдания (и сострадания), преображающегося в счастье. «В горе счастья ищи», – поучает Алёшу Зосима. «Давно не болела, Бог забыл…», – говорили старухи в русской деревне. Моральное сознание русских потрясено горькой участью человека в мире. Отсюда – моральные мотивы русского атеизма, социализма. В этом смысле прочитываются резонирующие слова Бердяева: «…нельзя в нашу эпоху не быть социалистом, оставаясь в пределах моральности»43. Основная моральная интенция – страдание – причина того, что русский народ всегда готов к тяготам и лишениям, к страданиям; его стоицизм не знает границ. Эта особенность русских определила антропологическую специфику русской культуры. «У русской культуры, – пишет И. Ильин, – одна-единственная проблема: в ней сердце ищет преображения в страдании посредством свободного созерцания. Вот ключ к русской религии, поэзии, музыке, живописи – к русской душе»44.
Именно любовью и страданием познает и живёт («очи-щается») русский человек. Поэтому уже в древности проявилась свойственная русским историческая жертвенность во имя счастья и сохранения народов России, бескорыстие и геополитическая мудрость. История свидетельствует о том, что более 200 этносов, живших ранее на территории Западной Европы, исчезло с лица Земли45. Россия же со своим материально-духовным опытом, в том числе общения с другими народами, не только сохранила все свои этносы, но не раз спасала собственные народы и народы Европы от завоевания и уничтожения. Лишь погоня за материальными благами, буржуазный дух, принесли на постсоветское пространство вражду и взаимное уничтожение.
Считаем, что сегодня только предложенный русской культурой великий альтернативный вариант, в основе которого лежит идея коллективного спасения, всечеловечности, показывает путь истинного гуманизма и перспективу развития человечества. Военно-политическому радикализму Европы можно и нужно противопоставить социально-этический радикализм, заключающийся в выдвижении социалистических идей и в уподоблении им человечных способов бытия, которые уважают право человека на свою историю, социально-национальную Традицию, вбирающую в себя объективный исторический смысл духа своего народа. Наш радикализм рассчитан на коренное «преображение» общественного бытия нации в соответствии с духом Русской Традиции и в её пределах. Идеалом будущего «устой-чивого общества», как правильно полагает В. Кутырев, является «homo vulgaris, человек традиционный, исторический и гуманный. Человек в границах своей меры, которая задаётся культурой»46.
Конечно, коллективистский способ человеческого бытия тоже может породить свою противоположность – антигуманизм. Однако мы верим, что будущее состояние человеческого духа за коллективизмом, т. к. цели (идеалы) коллективистских обществ способны выражать прогрессивную органическую национальную идею и пассионарную энергию «прорыва» к социальной справедливости и свободе, к освобождению от люциферических искушений человека – культа власти и богатства. Цели коллективистских обществ, реализуемые порой не так и не полно, несут в себе великую гуманистическую идею, тогда как индивидуализм изначально выдвигает низменные и неприглядные в самой своей сути идеи-цели– своекорыстие, алчность, властолюбие. Поэтому коллективизм – это прорыв «демократичес-кой» оболочки рабства к справедливости, свободе личности, свободе народов. Поэтому основная проблема, которую сегодня решает русский человек, носит общечеловеческий характер.
5. О будущем России
Небольшое гносеологическое пояснение. Во всякой традиции человек находит смысл бытия, который при этом не рационализируется (это удел философского сознания). Применительно к традиции можно говорить лишь о «гнозисе» в его старом метафизическом (религиозном) смысле как живом и конкретном переживании (вере) смысла бытия своего мира, народа, как диалектическом синтезе мыслей и верований многих поколений. Поэтому человек должен быть «консерватором» по отношению к гнозису («истинам») традиции, уже открытым в прошлом. Всякие призывы к «созданию новой национальной идеи» представляются нам поэтому политическим субъективизмом и релятивизмом по невежеству. «Истина не с меня начинается, – отмечал Бердяев, – и я бы не поверил в истину, которая с меня начиналась бы… Раскрытие истины мной, моим поколением лишь продолжается и я обязан быть не только революционером, но и консерватором»47.
Для нас очевидно, что та идея-цель, которую выстрадало русское мировоззрение, начиная с Радищева, пусть противоречиво, но реализовалась в условиях социализма. Социализм на практике раскрыл тайну народа, которую пытались спекулятивно и мистически постигнуть русские мыслители. Да и был он скорее не социализм в европейском и марксистском смысле этого понятия, а попыткой построения моральной общины на основе государственного насилия. Произошло то, о чём мечтали многие русские философы прошлого и начала 20-го столетия – «духовно-культурный подъём самих недр русской народной жизни»48, раскрытие его духовной активности. Потому что социализм (русский коммунизм), в чём мы согласны с Бердяевым, Зиновьевым и другими авторами, близок характеру русского народа и других народов России. Он усиливал этот характер, помог мощно проявиться ему. Тот самый характер, который, вырабатываясь веками, «складывается однажды в его истории, складывается раз и навсегда»49. Самобытный тип души, который был выработан её историей и навеки утверждён, со второй половины ХХ века начинает действительно утверждать себя положительно в мощи, в творчестве, в свободе, на что уповал в своё время Бердяев50. Сейчас, в ситуации ощущения преданности, униженности, оскорбления национального духа должно начаться рождение новой политической формы, которая оформляет нашу идеократию на основе, верим мы, возвращения к русской традиции. Русский национальный дух не умер, он возрождается и возродится, ибо «духовная жизнь не может быть угашена, она – бессмертна»51. Именно дух русского народа, с нашей точки зрения, – отправная методологическая идея всех историософских построений, имеющих целью «спасение» России.
Социально-политические события последних 2-3-х лет ушедшего тысячелетия рельефно показали, что до сих пор можно с уверенностью сказать о нашем народе словами И. Ильина: «Россия – это не пыль и не хаос. Это – прежде всего великий народ, не промотавший свою силу». Это подтверждается обобщёнными данными социологических опросов 1995–1999 годов, показывающими современное состояние русского духа: 87% – сторонники государственной собственности в ведущих отраслях экономики, свыше 80% – против купли-продажи земли; стремление к спокойной совести и душевной гармонии, семье и дружбе как основным жизненным целям (ценностям) выражает около 90% россиян. Установку «просто жить» и «зарабатывать деньги» приняло около 2% россиян. Государство по-преж-нему остаётся идеократическим началом, и 85% россиян считает, что оно должно нести ответственность за повышение материального благосостояния каждой семьи (а не заниматься формальным обеспечением прав и сбором налогов). И именно государство (по русской психологии) должно выдвинуть и обосновать некоторую всеобщую цель (начало начал конструктивного системного строительства), принимаемую в качестве российской национальной идеи52. При этом пора понять, что только если поднимем, укрепим русский дух, изменим общественный строй России, – вернётся сила, противостоящая и спасающая человека от агрессивной идеологии «золотого миллиарда» протестантов. Человека надо учить быть народом – важно выступить, не устрашиться, как в своё время от Куликова поля, и тогда дух русского народа вернётся к своему национально-соци-альному идеалу, своей традиции. Ибо Русская Традиция – вот единственный и предельный источник нашей силы, «мужества быть», которое способно принять на себя все тревоги, заботы и надежды русского бытия в период «страшных лет России». Традиция или небытие.
1 Цитируется по: Москва. 1999. № 8. С. 212.
2 Зеньковский В. В. Русские мыслители и Европа. М., 1997. С. 63.
3 Там же. С. 15.
4 Там же. С. 23.
5 Там же. С. 44.
6 Там же. С. 57.
7 Зеньковский В. В. Русские мыслители и Европа. М., 1997. С. 73.
8 Там же. С. 78.
9 Там же. С. 85.
10 Например, в этнографии, этнологии, политологии, где понятие традиции используется преимущественно в аспекте анализа «ритуалов», «обычаев», «национальной психики» или популярного сейчас понятия «менталитет».
11 В значительной мере именно в этом понимании применяется понятие «традиция» (как «предание», «обычай», «ментальность» и т. д.), например, в работе: Курашов В. И. Нация в общечеловеческом и российском измерениях. Казань, 1999. С. 6, 11.
12 См.: Кутырев В. А. Традиция и ничто // Философия и общество. 1998. № 6. С. 182.
13 См.: Булгаков С. Н. Свет невечерний. М., 1994. С. 271.
14 Бердяев Н. А. Новое религиозное сознание и общественность. М., 1999. С. 153.
15 См.: Бердяев Н. А. Философия творчества, культуры и искусства. М., 1994. Т. 2. С. 229.
16 История не знает нетоталитарного бытия людей, основывающегося на тотальных свойствах человека и тотальных принципах организации человеческой жизни. Но типы тотальностей (и типы демократий) различны, и лишь идеологическое прочтение истории может поставить на одну планку принципиально противоположные типы обществ, каковыми являлись, например, фашизм и национал-социализм, с одной стороны, и русский коммунизм – с другой (см., например: Ивин А. А. Введение в философию истории. М., 1997), или русская (истинная) и европейская демократии. Даже кафковский «Замок», оруэлловский «1984», а ещё раньше «Легенда о Великом инквизиторе» Достоевского – больше социально-философская пародия на европейский тип тоталитаризма, чем на российский.
17 См.: Дж. Ролз. Теория справедливости. Новосибирск, 1995.
18 Цит. по: Бердяев Н. А. Новое религиозное сознание и общественность. М., 1999. С. 375.
19 Тургенев И. С. Соч.: В 12 т. Т. 7. М., 1981. С. 78.
20 См. их анализ в книге: Кувакин В. Твой рай и ад: человечность и бесчеловечность человека (Философия, психология и стиль мышления гуманизма). СПб., М., 1998. С. 182–258.
21 Даже швейцеровская концепция благоговения перед жизнью оказалась непонятой на Западе. В России же она имела своего выдающегося предтечу Л. Толстого, оказавшего, в отличие от воздействия Швейцера на Европу, огромное влияние на духовное совершенствование русского самосознания.
22 Цит. по: Советская Россия. 1999. 16 сентября. С. 5.
23 Гуманистов объединяет нечто общее. «Этим общим является, – пишет В. Кувакин в своей новой интересной книге, – ярко выраженные человечность, любовь и уважение к человеку, забота о нём, о его свободе, достоинстве, благе, общении, праве и ответственности и многом другом, с чем связывали они идеалы подлинного человека, его достойного образа жизни». (Кувакин В. Указ. соч. С. 41.) Как это мало похоже на военно-политическую практику США и Европы!
24 Мяло К. Право на историю // Наш современник. 1999. № 8. С. 165–166.
25 Новый мир. 1999. № 1, 2.
26 См.: Платонов О. Почему погибнет Америка // Наш современник. 1998. № 10. С. 189.
27 Цит. по: Кутырев В. А. Устойчивое общество: его друзья и враги // Москва. 1999. № 3. С. 162.
28 См., например: Бердяев Н. А. Русская идея (О России и русской философской культуре). М., 1990. С. 44–45.
29 См., например: Бердяев Н. А. Русская идея (О России и русской философской культуре). М., 1990. С. 43–44.
30 Бердяев Н. А. Русская идея // Бердяев Н. А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли ХIХ века и начала ХХ века. Судьба России. С. 219.
31 Там же. С. 86 и др.
32 См.: Лосский Н. О. Характер русского народа // Лосский Н. О. Условия абсолютного добра: Основы этики; Характер русского народа. М., 1991. С. 258.
33 См.: Бердяев Н. А. Судьба России // Бердяев Н.. Русская идея. Основные проблемы русской мысли ХIХ века и начала ХХ века. Судьба России. С. 263–273, 292, 304–306.
34 См.: Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. М., 1991. С. 512.
35 Подробнее об этом см. в работе: Андреев А. П. Мысли Н. А. Бердяева о судьбе России и современность // Философский космос России. Уфа, 1998. С. 11–12.
36 Неклесса А. Творческий континент Россия // Москва. 1999. № 8. С. 117.
37 Бердяев Н. А. Судьба России // Бердяев Н. А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли ХIХ века и начала ХХ века. Судьба России. С. 68.
38 Бердяев Н. А. Судьба России // Бердяев Н. А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли ХIХ века и начала ХХ века. Судьба России. С. 134.
39 Там же. С. 188.
40 Подробнее см.: Селиванов А. И. Бытие и постижение развивающихся миров. Уфа, 1998.
41 Куняев С. Поэзия. Судьба. Россия (книга воспоминаний и размышлений) // Наш современник. 1999. № 4. С. 189–190.
42 Зиновьев А. А. Посткоммунистическая Россия. М., 1996. С. 198.
43 Бердяев Н. А. Новое религиозное сознание и общественность. М., 1999. С. 166.
44 Ильин И. Указ. соч // Москва. 1996. № 6. С. 182.
45 См.: Осипов Г. В. Россия: национальная идея и социальная стратегия // Вопросы философии. № 10. 1997. С. 6–7.
46 Кутырев В. Устойчивое общество: его друзья и враги // Москва. 1999. № 3. С. 163.
47 Бердяев Н. А. Новое религиозное сознание и общественность. М., 1999. С. 5.
48 Бердяев Н. А. Судьба России // Бердяев Н. А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли ХIХ века и начала ХХ века. Судьба России. С. 287.
49 Зиновьев А. А. Указ. соч. С. 325.
50 См.: Бердяев Н. А. Судьба России // Бердяев Н. А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли ХIХ века и начала ХХ века. Судьба России. С. 283.
51 Там же. С. 217.
52 См.: Андреев А. Экономика «виртуальная» или реальная? // Москва. 1999. № 5. С. 116–118.
традиции и перспективы – тема научной статьи по СМИ (медиа) и массовым коммуникациям читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка
Человек и общество
А.В. СКАТЕРЩИКОВА старший преподаватель кафедры истории и философии Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова*
Индивидуализм в современном обществе: традиции и перспективы
В статье рассматриваются проблемы современного индивидуализма, его связь с прошлым и тенденции развития в будущем. Обращается внимание на трактовку этого явления представителями различных школ и направлений в философии и социологии.
Ключевые слова: индивидуализм, солидарность, коллективизм, аривизм, личность, социальные связи, общество, независимость, глобализация, социальная философия.
Skatershchikova A.V. Individualism in modern society: traditions and perspectives. The article deals with the problems of modern individualism, its connection with the past and future trends. Attention is drawn to the interpretation of this phenomenon by representatives of various schools and trends in philosophy and sociology.
Keywords: individualism, solidarity, collectivism, arivism, personality, social ties, society, independence, globalization, social philosophy.
С тем, что мы сегодня живем в глубоко индивидуалистическом обществе, уже никто не спорит. Даже некоторые страны и народы, которым по их природе свойственен коллективизм, делают некий «реверанс» в сторону индивидуализма.
Россия стоит на перекрестке между Востоком и Западом, соединяя их. С одной стороны, Россия всегда тяготела к коллективизму Востока, в то время как Запад развивался на индивидуалистической основе. Но в современном мире и Россия стала перенимать западные ценности, которые, в
* Скатерщикова Алла Викторовна, e-mail: [email protected]
свою очередь, формируются и под американским влиянием. То есть налицо — результаты глобализации.
Тема «нового индивидуализма», являющегося результатом динамики современной модернизации, становится предметом обсуждения в социологии и философии примерно во второй половине 1980-х гг., а в России и того позже — в 90-х гг.
Сегодня данная проблема во многих отношениях и формах постепенно приобретает все большую видимость, выявляя несколько процессов, связанных друг с другом.
Когда мы обращаемся к феномену индивидуализма, мы имеем в виду набор собственных моделей поведения и убеждений, связанных со значением личности, которые сопровождают процессы модернизации общества1.
Такие процессы ведут к разрыву связей с традиционным обществом. То есть мы наблюдаем параллельно рост индивидуализма — как практики и как идеологии, которые предопределяют, а лучше сказать, разрушают социальные связи.
И как следствие этих процессов — особое внимание уделяется, например, роли человека в приобретении или утрате статуса, взаимодействию с другими индивидами, общим знаниям социальных практик2. Все эти черты говорят о том, что центральной фигурой современных дискуссий является личность.
Можем ли мы действительно говорить о «новом индивидуализме»? Если да, то каковы связи, различия или совпадения между индивидуализмом прошлого и современным индивидуализмом? Какой же индивидуализм является доминирующим сегодня? Тот, который в первую очередь способствует потере социальных связей, повсеместно вторгаясь в логику рынка? В новом столетии мы фактически сталкиваемся с массовым распространением манипулируе-мого индивидуализма как источником риска для судьбы демократического общества.
Мы можем в самом деле утверждать, что в обществе глобализации происходит переоценка индивида как независимого и самодостаточного существа, «заботящегося толь-
1 Галухин А.В. Атрибуторный контекстуализм в действии: стандартное решение головоломки скептицизма // Социально-гуманитарные знания, 2015, № 8, с. 143-160.
2 Мамедова Н.М., Гавриш В.Д., Скатерщикова А.В., Фомина А.С. Спорт в пространстве социальных практик современной цивилизации // Теория и практика физической культуры, 2018, № 1, с. 16-18.
ко о себе»? Правильно ли говорить, что новый индивидуализм опустошил основы гражданской активности и что потребительская культура и ненасытное стремление к экспериментам с идентичностью неумолимо толкают к гибели людей? Наконец, в каких терминах можно говорить о новом индивидуализме за пределами границ Запада? Все эти вопросы требуют ответа. И, естественно, что существуют разные точки зрения на эту проблему.
Утверждения о ценности личности во всем своем разнообразии всегда подчиняются определенным социальным условиям1, выражением которых они являются. На самом деле история этого явления показывает, что оно имеет много значений и что существует много возможных подходов к его пониманию. Этим занимаются философы, антропологи, писатели, психологи, и, конечно же, социологи2. Однако понимание различных значений индивидуализма — это нечто совершенно иное, чем провозглашение того, что он сводится к условиям, которые его порождают.
С одной стороны, утверждается, что современное общество характеризуется господством необузданного, эгоистичного и аривистского индивидуализма, где нет места для социальных связей. Этот доминирующий индивидуализм англо-американского происхождения в настоящее время экспортируется по всей Европе и остальному миру, вызывая искоренение того, что осталось от традиционных ценностей солидарности и общности3.
Данный тип индивидуализма стал всеобъемлющим с появлением системы защиты прав потребителей, основанной на создании «нового человека», преданного потребле-
1 Корнилова И.М. Формирование системы высшего образования в национальных районах России (на материалах Поволжья): Учеб. пособие. Элиста, 2008.
2 Ivlev V.J., Ivleva M.I., Panyukov A.I., Zulfugarzade T.E. Analysis of the touristic recreational potential of a territory as a condition for development of ecological tourism (the southern Moscow region case study) // Journal of Environmental Management and Tourism, 2017, vol. 8, № 2(18), p. 373-475.
3 Козьмин В.С. Ценностные приоритеты в системе коммуникаций глобального информационного общества // Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. Вступление. Путь в науку, 2016, № 1(13), с. 29-36.
нию и деньгам, полностью оторванного от своих корней, будь то социальные или индивидуальные особенности .
«Судьбу буржуа нужно понимать динамически, он не всегда был один и тот же. Эта обращенность буржуа к будущему, эта воля к возвышению, к обогащению, к приобретению первых мест создает тип аривиста. Аривизм есть буржуазное миросозерцание по преимуществу, — писал Н.А. Бердяев, — и оно глубоко противоположно всякому аристократизму. В буржуа нет изначальности, он плохо помнит своё происхождение и своё прошлое в отличие от аристократа, который слишком хорошо помнит. Это он, главным образом, создал бесстильную роскошь и поработил ей жизнь. В буржуазной роскоши гибнет красота. Роскошь хочет сделать красоту орудием богатства, и красота от этого погибает»2
С другой стороны, в настоящий период в доминирующей «массовой культуре» в качестве альтернативы предлагается (очень расплывчато и отвлеченно от реальности) возврат к племенной/коллективистской системе, типичной для примитивных обществ. Эта система, как мы знаем, основана на первенстве общества (или сообщества) и отрицании личности, которая не может осознать свое собственное достоинство и свободу в противовес ее сегодняшнему состоянию.
В то же время создается новая динамика, в рамках которой приверженность коллективу переплетается с убежденностью в том, что только преумножение отдельных действий индивида способно в конечном итоге произвести изменения. Иными словами, в выборе пути для современного общества мы хотим перейти от одной крайности к другой.
На самом деле очень немногие предлагают создать «третий путь», основанный на здравом смысле, т. е. общество, в котором доминирует «индивидуализм солидарности», гармонизирующий элементы, присущие этим двум системам, и, таким образом, преодолевает их границы и противоречия.
Что такое солидарность в данном контексте? Если индивидуализм — это принесение в жертву личным интересам интересов общественных, а коллективизм — его противоположность, то солидарность как бы стоит между ними и ука-
1 Сидоренко Л.П. Ницшеанство как антитеза гуманизма // Продовольственная безопасность и устойчивое развитие АПК: Материалы Международной научно-практической конференции. 2015, с. 873-878.
Бердяев Н.А. О рабстве и свободе человека. Опыт персоналистической метафизики. М.: Республика, 1995, с. 375.
зывает на добровольность намерений1. Она демократична и базируется на наличии социальных связей между людьми.
Некоторые сторонники этой концепции, выдвигая категорию «индивидуализм солидарности», настаивают, в частности, на таких формах индивидуализма, которые вместо того, чтобы выражать собой ситуацию распада коллективных связей, как представляется, ведут к новой динамике социального регулирования. Эта теория отсылает нас к такой форме индивидуализма 60-х гг. прошлого столетия, как «космополитический индивидуализм», который проявлялся через транснациональные, гибридные и множественные идентичности.
В более общем плане процессы глобализации требуют пересмотра традиционной концепции социальной солидарности как продукта регулирующего аппарата (основных социальных институтов), выполняющего функцию социализации и организации индивидов в соответствии с потребностями общества, социального порядка2. Глобализация знаменует собой упадок «институциональной программы» и возникновение солидарности, которая превосходит силу принуждения национальных государств и социальных институтов, поскольку она передается новыми формами идентичности. Теоретики «индивидуализма солидарности» ссылаются на пример групп диаспоры, которые одновременно культивируют интеграцию в принимающей стране и не ослабляют тесные связи со страной происхождения. Они учатся справляться с противоречивой ситуацией, сплетением потребностей и вопросов, которые имеют различное, но одинаково законное происхождение. Опыт, характерный для многих и многих в современных обществах. Именно в этом контексте развивается космополитический индивидуализм, т. е. опыт построения на принципиально индивидуализированной основе инновационных социальных связей, форм нетрадиционного политического участия, нового отношения к социальному сотрудничеству.
Исследования известных социологов и философов, специалистов по проблемам глобализации У. Бека и З. Баумана отражают этап в социальной жизни, характеризующийся потерей тех надежных ориентиров, которые были
1 Понизовкина И.Ф. Еще раз об экологии // Вестник Российского философского общества, 2009, № 1, с. 128-131.
2 Гавриш В.Д., Заклинский П.А. Время и общественное сознание // Социально-гуманитарные знания, 2017, № 10, с. 204-208.
продиктованы стабильностью работы и классовой принадлежностью в прошлом. Теперь инициатива по борьбе с рисками полностью отдана физическим лицам, закрытым в собственном «одиночестве». С этой точки зрения индивидуализация становится своего рода осуждением, а самоопределение — «навязчивым и обязательным» требованием1.
Л. Шиолла, известный итальянский социолог, обращаясь к индивидуализму, как раз возникшему во времена кризиса публичной сферы, считает крайне «нереалистичными», хотя и имеющими под собой какую-то основу выводы данных авторов. «Социальная реальность, — отмечает она, — гораздо сложнее, чем показывают эти интерпретации. Она выявляет те пробелы, в которых развитие личности управляет процессами социальных преобразований». Требуемое ситуацией самоутверждение может быть положительно коррелировано с «нетрадиционными формами политического участия в общественной жизни»2.
Таким образом, как уже упоминалось выше, общество, слишком сосредоточенное на личности в ущерб коллективу, приходит к отсутствию стабильности и определенности, в то время как племенное/коллективистское общество, базирующееся на отсутствии свободы и ее составляющих, неотъемлемой частью которых является разнообразие, в современном мире просто не сможет существовать.
А вот с созданием общества, основанного на солидарности и индивидуализме, оба положительных аспекта двух систем, где права личности не препятствуют стабильности сообщества, или наоборот, были бы оценены и использованы.
Конечно, это была бы другая форма индивидуализма, которая не имеет ничего общего с эгоизмом либеральной формы или гедонизмом радикальной формы, доминирующей в обществе поздних 60-х гг. прошлого века. Следовательно, это индивидуализм, основанный не на безудержной конкуренции или культе собственного Эго, а на здоровом и сбалансированном индивидуализме внутренних качеств.
Инновационная попытка осмыслить траектории индивидуализма в современном обществе привела к необходи-
1 См.: Бауман З. Индивидуализированное общество / Пер. с англ.; Под ред. В. Л. Иноземцева. М.: Логос, 2002.
2 Sciolla L. Individualizzazione, individualismi e ricomposizione sociale // La societa degli individui, 2010, №. 37, p. 44.
мости ввести новый термин — «сингулярность» (единичность) — чтобы выделить явления, выходящие за рамки современного индивидуализма1. В то время как традиционализм характеризуется тяготением к самоопределению личности и поэтому к автономизации личной жизни от общественной (в работе, в семье, а также во вкусах и убеждениях), сингулярность выражается в признании вашей собственной неповторимости остальными, и, следовательно, в погружении человека в коллективную жизнь2. В то время как современный индивидуализированный субъект завоевывает свою автономию через разделение ролей, «сингулярный» субъект вливается в социальную жизнь, исходя из специфики и конкретности личной жизни3.
Трудности, с которыми столкнулись рассмотренные теории, заключаются в неприятии одной известной идеи, выдвинутой еще философами прошлого: свобода не существует вне ограничений, она находится внутри них. И в любом случае возникает противоречие между навязчивой ситуацией и самоопределением, между индивидуализмом как обязательным социальным условием этическим выбором быть самим собой.
1 Железнякова С.И. Философия здорового образа жизни: от моды к устойчивым общественным практикам // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке, 2016, т. 5, № 5А, с. 133-141.
2 Новикова ЕЮ. «Экономический человек»: быть и иметь // Вестник Московского университета. Серия 7: Философия, 1996, № 6, с. 19-29.
3 Crespi F.,MartuceIIi D. L’individualismo del nuovo secolo tra privatismo e nuove forme di legame sociale. C. Leccardi, & P. Volonté (a cura di) Milano: Egea, 2017, р. 1S.
методологический конструкт научного исследования – тема научной статьи по философии, этике, религиоведению читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка
во многом зависит, как складываются взаимоотношения между людьми, социокультурными институтами в любой сфере общественной жизни — юридической, экономической, политической, религиозной и т.д.
ЛИТЕРАТУРА
1. См.: Gilbert P. Compassion: Conceptualisations, research, and use in psychotherapy. N.Y.: Routledge, 2005. 416 p.
2. См.: Post S.G., Underwood L.G., Schloss J.P., Hurlbut W.B. (eds.). Altruism and Altruistic Love: Science, Religion and Philosophy in Dialogue: Science Philosophy and Religion in Dialogue. N.Y.: Oxford University Press, 2002. 522 p.
3. Oveis C., Horberg E.J., Keltner D. Compassion, Pride, and Social Intuitions of Self-Other Similarity //
Journal of Personality and Social Psychology. 2010. Vol. 98. № 4. P. 618-630.
4. См.: Логунова Е.Г. Феномен милосердия: опыт социально-философского анализа. Автореф. дис. … канд. филос. наук. Ижевск. 2012. 20 с.
5. Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. М.: Академический Проект, 2001. 990 с. С. 43.
6. Лавик-Гудолл Дж. Ван. В тени человека. М.: Мир, 1974. 208 с. С. 157.
7. См.: Семенов Ю.И. На заре человеческой истории. М.: Мысль, 1989. 319 с. С. 226-231.
8. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктив-ности. М.: Республика, 1994. 447 с. С. 148.
9. Хейзинга Й. Осень Средневековья. М.: Наука, 1988. 540 с. С. 25.
13 июня 2013 г.
УДК 101.1:316
ИНДИВИДУАЛИЗМ В РОССИИ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ КОНСТРУКТ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В.П. Войтенко
Индивидуализм в России долгое время оставался предметом исключительно абстрактно-теоретических рассуждений. По мнению русских философов, проявления западного индивидуализма в России подавляются таким качеством русского народа, как соборность.
Однако они полагают, что в России всегда есть место индивидуализму, проникнутому православной религиозной интенцией. Так, А.С. Хомяков, отмечая противостояние русской соборности западному индивидуализму, отождествляет русский индивидуализм с полной индивидуальной свободой и религиозной искренностью православного христианина [1]. По мнению Г.П. Федотова, индивидуализм в России проявляется в православной установке на личность и ее религиозный, чисто мистический, путь [2].
Войтенко Валерия Петровна — аспирант кафедры философии и культурологии Южного федерального университета, 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 160, e-mail: [email protected], т. +79281509309;
Н.А. Бердяев связывает русский индивидуализм с обостренным сознанием личности. Однако, по мнению философа, «коммюнотар-ность русского народа и безличный коллективизм противостоят развитию индивидуализма в России» [3]. С.Л. Франк также считает, что русский духовный коллективизм противостоит западному индивидуализму, однако такие понятия, как «личная свобода», «индивидуальность» присущи русскому обществу, являясь крепкой основой его коллективизма и соборности [1].
Следует отметить, что в советскую эпоху индивидуализм в России не изучался, так как рассматривался в качестве «буржуазного завоевания», проявления собственничества, отсталости и антиобщественного эгоизма.
В постсоветский период интерес к индивидуализму возрождается. А.Г. Дугин по-
Valeria Voytenko — postgraduate student of the Department of Philosophy and Culturology at the Southern Federal University, Pushkinskaya street, 160, Rostov-on-Don, 344006, e-mail: [email protected], t. +79281509309
лагает, что на отсутствие западной формы индивидуализма в России повлияло, прежде всего православие, которое имеет собственное представление об обществе и о месте в нем церкви и веры. И это представление категорически расходится с западным индивидуализмом. Для православного христианина вера есть не только индивидуальный вопрос, личный выбор человека и проблема субъекта, внутреннего мира, но она включает в себя необходимость и измерение общественного бытия и нормативные взгляды на природу окружающего мира [4]. А.В. Лубский и Р.А. Лубский отмечают, что в социоцен-тристском российском обществе доминирует запретительный тип агрессивного антииндивидуализма, основу которого составляют корпоративная зависть и принцип уравнительной справедливости. Вместе с тем он подчеркивает, что личная самоопределенность присуща и человеку социоцентристского общества, «но это порождает в нем внутренний конфликт между предопределенностью и свободой. Формами разрешения этого конфликта в русском культурном архетипе становятся «уход в пустынь» или «юродство в миру»» [5, с. 30].
Следует отметить, что индивидуализм в России стал предметом социально-философского изучения. Однако, это изучение строилось на личностном отношении русских философов к индивидуализму. Кроме индивидуально-личностного подхода в социальной философии существует иной подход — трансдисциплинарный. Трансдисциплинарный подход представляет собой метатеорию, выход за пределы дисциплинарного деления научного знания. Трансдисциплинарность -это обобщение результатов, полученных в разных научных дисциплинах. Следовательно, для того чтобы разработать социально-философскую концепцию индивидуализма в России на трансдисциплинарном уровне, необходимо выяснить, как в рамках разных научных дисциплин исследователи изучают индивидуализм.
Так, Г. Хофстеде и Ф. Тромпенаарс провели сравнительные этнометрические исследования, которые включали измерение индекса индивидуализма в разных странах, в том числе и в России. Разница между исследованиями при этом заключалась в содержатель-
ном наполнении понятия «индивидуализм». Г. Хофстеде под индивидуализмом понимал предпочтение людей заботиться только о себе и собственных семьях [6]. Ф. Тромпенаарс рассматривал индивидуализм как господство интересов личности (личные счастье, достижения и благосостояние) над интересами группы [7]. Отечественные социологи также проводят этнометрические исследования индивидуализма в России. Ю.В. Латов и Н.В. Латова рассматривают индивидуализм как особую форму мировоззрения, подчеркивающего приоритет личностных целей и интересов, свободу индивида от общества [8].
В рамках социальной психологии Г. Триандис рассматривал индивидуализм как особую форму мировоззрения, в котором на первом месте стоят собственные убеждения, чувства и эмоции, в противовес взаимоотношениям с другими людьми [9].
В рамках культурологии П.Л. Бергер и С. Хантингтон и предложили рассматривать индивидуализм как особую идеологию глобальной культуры, которая помогает разрушить традиции и дух коллективизма, реализовать конечную ценность глобальной культуры — личную свободу [10].
Таким образом, индивидуализм еще не изучался на трансдисциплинарном уровне. В связи с этим целью исследования является разработка методологии социально-философского исследования индивидуализма в России.
В рамках трансдисциплинарного социально-философского конструкта индивидуализм может быть рассмотрен как стиль жизни. Стиль жизни представляет собой определенную организацию мышления и деятельности. Стиль жизни определяется как способ повседневного поведения людей в соответствии с собственными потребностями и установками в пределах возможностей, создаваемых образом жизни. Уточняя такое представление о стиле жизни, отметим, что он представляет собой особую организацию мышления и жизнедеятельности людей в сфере повседневности. Соответственно, индивидуализм как стиль жизни характеризуется, с одной стороны, особым стилем мышления, с другой — специфическим стилем повседневной жизнедеятельности.
В научной литературе под стилем мышления понимают совокупность его установок,
методов, принципов, «реализуемых как в рамках самого мыслительного процесса, т.е. в сознании, так и внешним образом, вербально или в каком-либо материальном действии, поступке, поведении и образе жизни». В основе стиля мышления лежит определенная парадигма, определяющая его практику. Но в отличие от парадигмы мышления, его стиль -это фактическая, непосредственная практика мышления, его действия на основе этой парадигмы [5, с. 32].
Для индивидуализма характерна целе-рациональная парадигма мышления, предполагающая самоценность человека как уникальной личности и ее обращенность на себя как центр познания и деятельности. Эта парадигма ориентирована на конкретный результат социальных действий и эффективность социальных технологий. Личность, которая мыслит рационально, считает разум главным способом познания, наиболее достоверным, надежным, самым совершенным инструментом отыскания истины. Рационалист, -по мнению В.А. Кувакина, — ценит науку, видит в ней наиболее яркое и плодотворное проявление рациональных способностей людей. Личность, поставленная рациональным мышлением в центр мироздания, игнорирует какую-либо трансцендентную волю. Он считает, что для личности с индивидуалистским типом мышления присуща установка признавать значимость не только «своих», но и «чужих» представлений и ценностей, заинтересованное к ним отношение в плане необходимости взаимопонимания, а также усвоения и использования в собственной духовной практике и социальном поведении [11].
Индивидуалистский стиль мышления является логическим и аналитическим, что позволяет личности с рациональной ориентацией быть динамичной, активной и прагматичной. Личность с индивидуалистским стилем мышления оперирует такими понятиями, как мораль, истина, красота и польза в когнитивной разобщенности [5, с. 33].
В основе стиля повседневной жизнедеятельности лежат различные личностные интенции (стремления) индивидов. М.Е. Илле выделяет три таких базовых интенции: «быть как все», «быть иным», «быть другим», которые усваивается в процессе социализации. «Быть как все» — это интенция, которая
предполагает стремление к индивидуальному, пространственно-временному единообразию. Данное стремление обеспечивает обществу стабильность путем сохранения традиций, взаимопонимания. Интенция «быть другим» выражается в стремлении индивида выйти за пределы «унылой повседневности и рамки собственного «Я». Данное стремление, по мнению М.В. Илле, выражается в потребности «пожить» новой жизнью. Интенция «быть другим» — это стремление индивида к пространственно-временному многообразию. Интенция «быть иным» — это стремление индивида к индивидуально-пространственному многообразию и индивидуально-временному многообразию, которое заключается в стремлении «быть иным» по отношению к себе, а не по отношению к другим, окружающим [12]. Именно эта интенция характерна для индивидуалистического стиля жизни.
Личность, в основе стиля жизнедеятельности которой заложена интенция «быть иным», воспринимает мир как хаос, который он должен упорядочить своей преобразующей силой. Добродетелями такой личности являются активность и интенсивность, ощущение личной свободы и личной ответственности, расчет на собственные действия и собственную судьбу.
Для реализации стремления «быть иным» необходим высокий уровень социальной мобильности в обществе, ценность, высокая значимость личного успеха во всех сферах общественной жизни, а также независимость. Стремление «быть иным» побуждает личность к предприимчивости, инициативности, самостоятельности мышления и поступков. Данная интенция может быть реализована главным образом за счет изменения системы ценностей, мировоззренческих установок, создания социальных каналов реализации личностного потенциала.
Таким образом, в рамках трандисципли-нарной социально-философской методологии изучения индивидуализма в России первой задачей является определение структуры индивидуализма в России через особый стиль мышления и особый стиль жизнедеятельности. Так как трансдисциплинарная философия представляет собой многомерный конструкт, то второй задачей исследования индивидуализма в России является выявление факторов
индивидуализма в российском обществе, к числу которых относятся следующие: особенности локально-цивилизационного развития, характерные черты общественного устройства, в частности сам тип общества, тип нормативной личности, а также модер-низационные трансформации российского общества. Такой методологический конструкт позволит выявить характерные черты и особенности индивидуализма в России.
ЛИТЕРАТУРА
1. Франк С. Русское мировоззрение // Библиотека думающего о России [Электронный ресурс]. URL: http://www.patriotica.ru/religion/frank_rus_mir.html
2. Сомин Н.В. Г.П. Федотов: «спасти правду социализма правдой духа и правдой социализма спасти мир» // Православный социализм как русская идея [Электронный ресурс]. URL: http://www.chri-soc. narod. ru/G_P_Fedotov. htm.
3. Бердяев Н. Русская идея. М.: МАСТ: Астрель: Полиграфиздат, 2010. 286 с. С. 7.
4. Дугин А. Учение православной традиции о нормативном обществе // Евразия: информационно -аналитический портал [Электронный ресурс]. URL: http://www.evrazia.org/article/1596
5. Лубский А.В., Лубский Р.А. Человек в России и на Западе: концепты дискурсивного мышления // Научная мысль Кавказа. 2012. № 4. С. 27-36.
6. Hofstede G. Culture’s Consequences: Intern Differences in Work-Related Values. Beverly Hills, L., 1980. 327 р.
7. Trompenaars F. Resolving International Conflict: Culture and Business Strategy // London Business School. 1996. Vol. 7 (3). P. 51-68.
8. Латов Ю.В., Латова Н.В. Российская экономическая ментальность на мировом фоне // Общественные науки и современность. 2001. № 4. С. 34-43.
9. Триандис Г.К. Индивидуализм и коллективизм: прошлое, настоящее и будущее // Психология и культура / Под ред. Д. Мацумото. СПб.: Питер, 2003. 718 с. С. 73-97.
10. Бергер П., Хантингтон С. Многоликая глобализация: культурное многообразие в современном мире. М.: Аспект Пресс, 2004. 379 с.
11. См.: Кувакин В.А. Твой рай и ад: Человечность и бесчеловечность человека (Философия, психология и стиль мышления гуманизма). СПб.: «Алетейя»; М.: «Логос», 1998. С. 116-136.
12. См.: Илле М.Е. К вопросу о предмете социологии // Социально-политический журнал. 1994. № 11-12. С. 101-112.
23 апреля 2013 г.
УДК 356.132.08:330.1
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ТАМОЖЕННИКОВ: ПРОБЛЕМЫ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ
О.В. Евграфова
Важнейшей задачей таможенной системы является защита экономических интересов страны во внешнеэкономической деятельности. Несомненно, главным в совершенствовании работы этой системы является подготовка кадров, в частности, формирование у таможенников экономической культуры, адекватной решаемым задачам.
Но специального теоретического внимания этому аспекту деятельности работников таможенных органов и служб почти
Евграфова Ольга Владимировна — кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры экономической теории Ростовского филиала Российской таможенной академии, 344002, г. Ростов-на-Дону, пр. Бу-денновский, 20, e-mail: [email protected], т. 8(863)2180727.
не уделяется, публикации по данной тематике найти крайне трудно. В частности, ИПС «Yandex» по соответствующему запросу на май-июнь 2013 г. не дает в числе сотни ссылок ни одной с названием «экономическая культура таможенника». В этой ситуации остается опираться на немногочисленные работы по профессиональной культуре таможенников — госслужащих, содержащие некоторые модельные требования, предъявляемые к работникам таможни (личные обязательства, соблюдение законов, исполь-
Olga Evgrafova — Ph.D. in Philosophy, senior lecturer of the Department of Economic Theory at the Russian Customs Academy, Rostov Branch, 20, Budennovskiy Prospect, Rostov-on-Don, 344002, e-mail: [email protected], tel. +7(863)2180727.
Глава I. Индивидуализм: истинный и ложный — Индивидуализм и экономический порядок — Книги и сборники — Библиотечка Либертариума
Из восемнадцатого столетия и революции, как из
общего
источника, вышли два течения: первое вело
людей к свободным
институтам, тогда как второе
направляло их к абсолютной
власти.
Алексис де Токвиль
1
Проповедовать в наши дни какие бы то ни было четко сформулированные принципы общественного порядка — значит почти наверняка заработать ярлык оторванного от жизни доктринера. Стало считаться признаком беспристрастного ума, когда в социальных вопросах не придерживаются твердых принципов, но решают каждую проблему «как она есть сама по себе»; когда большей частью руководствуются целесообразностью и с готовностью идут на компромиссы между противоположными точками зрения. Однако у принципов есть способ утвердить себя, даже если они не признаются явно, а лишь подразумеваются отдельными решениями или присутствуют только в качестве смутных идей о том, что следует и чего не следует делать. Так и получилось, что под вывеской «ни индивидуализма, ни социализма» мы на деле быстро движемся от общества свободных индивидов к обществу полностью коллективистского толка.
Я не только намереваюсь защитить определенный общий принцип социальной организации, но и постараюсь показать, что отвращение к общим принципам и предпочтение переходить от одного частного случая к другому являют собой плод движения, которое с «неизбежностью постепенности» ведет нас назад от общественного порядка, покоящегося на общем признании известных принципов, к системе, в которой порядок создается с помощью прямых приказов.
После опыта тридцати последних лет, похоже, уже не нужно доказывать, что без принципов мы начинаем просто плыть по течению. Прагматический подход, господствовавший в этот период, не только не усилил нашу власть над событиями, но фактически привел нас к такому положению вещей, которого никто не желал; и единственным результатом нашего пренебрежения принципами стало, по-видимому, то, что нами управляет логика событий, которую мы тщетно пытаемся игнорировать. Вопрос сейчас состоит не в том, нуждаемся ли мы в направляющих нас принципах, но скорее в том, существует ли еще хоть какой-то их набор, пригодный для общего употребления, которому мы могли бы при желании следовать. Где еще можно отыскать систему заповедей, способную дать нам ясное руководство в решении проблем нашего времени? Осталась ли где-нибудь последовательная философия, которая укажет нам не только моральные цели, но и верный способ их достижения?
Усилия, предпринимаемые церковью с целью выработки законченной общественной философии, и те абсолютно противоположные результаты, к которым приходят многие, начинающие с одних и тех же христианских оснований, показывают, что религия сама по себе не дает нам ясного руководства в этих вопросах. Несмотря на то что упадок ее влияния, несомненно, является одной из главных причин нынешнего отсутствия у нас ясных интеллектуальных и нравственных ориентиров, возрождение религии не намного уменьшило бы потребность в пользующемся всеобщим признанием принципе общественного порядка. Мы все равно нуждались бы в политической философии, которая шла бы дальше фундаментальных, но общих предписаний, предоставляемых религией и нравственностью.
Название, выбранное для этой главы, говорит о том, что такая философия, как мне кажется, все же существует. Речь идет о наборе принципов, внутренне присущих основной части западной, или христианской, политической традиции, которые, однако, не могут быть однозначно описаны каким-либо легко узнаваемым термином. Необходимо, таким образом, заново изложить все эти принципы, прежде чем мы сможем решить, в состоянии ли они еще служить нам в качестве практического руководства.
Трудность, с которой мы сталкиваемся, состоит не просто в том, что существующие политические термины отличаются заведомой двусмысленностью, и даже не в том, что для разных групп одно и то же понятие зачастую обладает почти противоположным смыслом. Гораздо более значим тот факт, что нередко употребление одного и того же слова создает впечатление общности людей, в действительности верящих в несовместимые или враждебные друг другу идеалы. В наши дни такие термины, как «либерализм» и «демократия», «капитализм» и «социализм», не символизируют больше никаких связных систем идей. Они стали обозначать конгломераты совершенно разнородных принципов и фактов, которые исторический случай связал с этими словами, но которые имеют между собой мало общего помимо того, что их защищали в разное время одни и те же люди или вообще что они просто проповедовались под одинаковым названием.
Никакой другой термин не пострадал в этом отношении больше, чем «индивидуализм». Он не только был окарикатурен своими оппонентами до неузнаваемости — а нам всегда следует помнить, что большинству наших современников вышедшие сегодня из моды политические концепции известны только в изображении, созданном их противниками, — но и использовался для обозначения нескольких отличных взглядов на общество, которые имели между собой так же мало общего, как и со взглядами, традиционно считавшимися их противоположностью. Действительно, когда при подготовке этой работы я просмотрел несколько стандартных определений «индивидуализма», то почти пожалел о том, что вообще связал идеалы, в которые верю, с термином, которым так злоупотребляли и который так неверно понимали. Но что бы еще ни обозначалось термином «индивидуализм» помимо этих идеалов, есть две веские причины для закрепления его за теми воззрениями, что я намерен отстаивать: во-первых, эти воззрения всегда были известны под таким названием, пусть временами оно приобретало к тому же и какие-то иные значения; во-вторых, оно примечательно тем, что именно с целью выразить идею, противоположную индивидуализму, было придумано слово «социализм». [По происхождению оба термина — «индивидуализм» и «социализм» — являются изобретением сен-симонистов, основоположников современного социализма. Сначала они ввели термин «индивидуализм» для обозначения конкурентного общества, против которого выступали, а затем придумали слово «социализм» для обозначения централизованно планируемого общества, в котором вся деятельность управляется по тому же принципу, что и на отдельной фабрике. О происхождении этих терминов см. мою статью «Контрреволюция науки»: Economica, VIII (new ser., 1941), 146. (Здесь и далее оформление библиографии дается по оригиналу. — Прим. ред.).] Именно систему, альтернативную социализму, я и предполагаю рассмотреть.
2
Прежде чем объяснить, чту я понимаю под истинным индивидуализмом, полезно указать на интеллектуальную традицию, к которой он принадлежит. Развитие современного индивидуализма, который я попытаюсь защитить, началось с Джона Локка и, в особенности, с Бернарда Мандевиля и Дэвида Юма. В полную же силу он впервые заявил о себе в работах Джозайи Такера, Адама Фергюсона, Адама Смита и их великого современника Эдмунда Бёрка — человека, которого Смит охарактеризовал как единственного из всех известных ему людей, чьи мысли по экономическим предметам полностью совпали с его собственными, хотя ранее они никогда не общались [ R. Bisset, Life of Edmund Burke (2d ed., 1800), II, 429. Ср. также: W.C.Dunn, «Adam Smith and Edmund Burke: Complimentary Contemporaries», Southern Economic Journal (University of North Carolina), Vol. VII, No. 3 (January, 1941).]. Я считаю, что в XIX веке наиболее полно истинный индивидуализм представлен в работах двух величайших историков и политических философов того времени — Алексиса де Токвиля и лорда Актона. Мне представляется, что эти два человека успешнее любых других известных мне авторов развили все лучшее из политической философии шотландских философов, Бёрка и английских вигов, тогда как экономисты классической школы XIX века или, по крайней мере, примыкающие к ней последователи Бентама и философы-радикалы все более подпадали под влияние индивидуализма другого рода, имевшего иные истоки.
Это второе и совершенно отличное от первого направление мысли, также известное как индивидуализм, представлено в основном французскими и другими континентальными авторами, что обусловлено, как мне представляется, той доминирующей ролью, какую играет в нем картезианский рационализм. Выдающимися представителями этой традиции являются энциклопедисты, Руссо и физиократы. По причинам, которые мы вскоре изложим, этот рационалистический индивидуализм всегда имел тенденцию перерождаться в противоположность индивидуализма — в социализм или коллективизм. Именно потому, что индивидуализм первого типа внутренне последователен, я утверждаю за ним название истинного индивидуализма, тогда как вторую его разновидность следует, вероятно, считать таким же значимым источником современного социализма, как и собственно коллективистские теории. [Карл Менгер, который в новейшие времена одним из первых сознательно возрождал методологический индивидуализм Адама Смита и его школы, был, вероятно, также первым, кто указал на связь между «проектной» теорией общественных институтов и социализмом. См. его: Untersuchungen uber die Methode der Sozialwissenschaften (1883), особенно книгу VI, гл. 2, где он говорит о «прагматизме, который, вопреки намерению его представителей, неминуемо ведет к социализму». (Рус. пер.: Менгер К. Исследования о методах социальных наук и политической экономии в особенности. СПб., 1894, с. 194.). Знаменательно, что уже физиократы перешли от рационалистического индивидуализма, с которого они начинали, не только близко к социализму (полно раскрытому в работе их современника Морелли «Кодекс природы» [1755]), но к проповедыванию худшего вида деспотизма. «Государство делает с людьми все, что захочет», — писал Бодо.]
Мне трудно дать лучший образчик господствующей путаницы относительно смысла индивидуализма, нежели тот, что человека, которого я считаю одним из величайших представителей истинного индивидуализма, Эдмунда Бёрка, обычно (и справедливо) представляют главным оппонентом так называемого «индивидуализма» Руссо, чьи теории, опасался Бёрк, быстро разложат человеческое сообщество «на пыль и прах индивидуального бытия» [Edmund Burke, Reflections on the Revolution in France (1790), в Works (World’s Classics ed.), VI, 105: «Таким образом, само человеческое сообщество всего через пару поколений искрошилось бы в пыль и прах индивидуального бытия и, в конце концов, рассеялось бы по всем четырем сторонам света». (Рус. пер.: Бёрк Э. Размышления о революции во Франции. М., «Рудомино», 1993.) То, что Бёрк (как указывает А.М.Осборн в своей книге «Руссо и Бёрк» [Oxford, 1940], p. 23), сначала нападавший на Руссо за его крайний «индивидуализм», позднее нападал на него за крайний коллективизм, не есть непоследовательность, а всего лишь результат того, что проповедь рационалистического индивидуализма и Руссо и всеми остальными неизбежно вела к коллективизму.]; а также то, что сам термин «индивидуализм» проник в английский язык через перевод одной из работ другого великого представителя истинного индивидуализма, Токвиля, использующего этот термин в своей работе «Демократия в Америке» для обозначения позиции, которую он считает предосудительной и отвергает. [Alexis de Tocqueville, Democracy in America, trans. Henry Reeve (London, 1864), том II, книга II, гл. 2, где Токвиль определяет индивидуализм как «взвешенное и спокойное чувство, побуждающее гражданина изолировать себя от массы себе подобных и замыкаться в узком семейном и дружеском кругу. Создав для себя таким образом маленькое общество, человек перестает тревожиться обо всем обществе в целом». (Рус. пер.: А. де Токвиль. Демократия в Америке. М., «Прогресс», 1992, с. 373.) В примечании к этому тексту переводчик приносит свои извинения за введение французского термина «индивидуализм» в английский язык и поясняет, что, насколько ему известно, «никакое английское слово не может быть точным эквивалентом данного выражения». Как указал Альбер Шатц в упоминающейся ниже книге, использование Токвилем устоявшегося французского термина в таком особом смысле является полностью произвольным и ведет к серьезной путанице с устоявшимся значением.] Несомненно все же, что как Бёрк, так и Токвиль в самом главном стоят близко к Адаму Смиту, а уж ему-то никто не откажет в звании индивидуалиста; верно и то, что «индивидуализм», которому они противостоят, есть нечто совершенно отличное от индивидуализма Адама Смита.
3
Каковы же в таком случае характерные особенности истинного индивидуализма? В первую очередь это теория общества, попытка понять силы, определяющие общественную жизнь человека, и только во вторую — ряд политических максим, выведенных из подобного представления об обществе. Этого достаточно, чтобы опровергнуть наиболее нелепое из распространенных недоразумений — убеждение, что индивидуализм постулирует существование обособленных и самодостаточных индивидов (или основывает на этом предположении свои аргументы) вместо того, чтобы начинать с людей, чья природа и характер целиком обусловлены их бытием в обществе. [В своем превосходном обзоре истории индивидуалистических теорий Альбер Шатц делает верный вывод о том, что «…прежде всего мы с очевидностью понимаем, чем индивидуализм не является — как раз тем, чем его обыкновенно считают: системой обособленного существования и апологией эгоизма…» (L’Individualisme economique et social [Paris, 1907], p. 558). Эта книга, которой я чрезвычайно обязан, заслуживает быть гораздо более известной как вклад не только в предмет, обозначенный в ее заглавии, но и вообще в историю экономической теории.] Если бы это было так, тогда он действительно не мог бы ничего добавить к нашему пониманию общества. Но основное утверждение индивидуализма совершенно иное. Оно состоит в том, что нет другого пути к объяснению социальных феноменов, кроме как через наше понимание индивидуальных действий, обращенных на других людей и исходящих из их ожидаемого поведения. [В этом отношении, как правильно разъяснил Карл Прибрам, индивидуализм есть необходимый результат философского номинализма, тогда как коллективистские теории уходят корнями в традицию «реализма» (или, как недавно более точно назвал ее К.П.Поппер, «эссенциализма») (К.Pribram, Die Entstehung der individualistischen Sozialphilosophie [Leipzig, 1912]). Однако этот «номиналистский» подход присущ только истинному индивидуализму, тогда как ложный индивидуализм Руссо и физиократов, в соответствии с его картезианским происхождением, является последовательным «реализмом», или «эссенциализмом».] Этот аргумент нацелен прежде всего против собственно коллективистских теорий общества, которые претендуют на способность непосредственно постигать социальные целостности (вроде общества и т.п.) как сущности sui generis < особого рода (лат.)>, обладающие бытием независимо от составляющих их индивидов. Следующий шаг в индивидуалистическом анализе общества направлен против рационалистического псевдоиндивидуализма, который также на практике ведет к коллективизму. Он утверждает, что, прослеживая совокупные результаты индивидуальных действий, мы обнаруживаем, что многие институты, составляющие фундамент человеческих свершений, возникли и функционируют без какого бы то ни было замыслившего их и управляющего ими разума; что, по выражению Адама Фергюсона, «нации наталкиваются на учреждения, которые являются, по сути, результатом человеческих действий, но не результатом человеческого замысла» [Adam Ferguson, An Essay on History of Civil Society (1st ed., 1767), p. 187. Cр. также: «Формы общества ведут свое происхождение от неясного и отдаленного начала; они возникают — задолго до рождения философии — из инстинктов, а не из размышлений человека… Мы приписываем предварительному замыслу то, что стало известным только из опыта, то, что никакая человеческая мудрость не могла предвидеть, и то, чего никакой авторитет — без согласия с настроениями и нравами своего времени — не мог бы дать возможность индивиду исполнить» (ibid., p. 187, 188). Небезынтересно сравнить эти места с похожими высказываниями, в которых современники Фергюсона выражали ту же основную идею британских экономистов XVIII в.: Josiah Tucker, Elements of Commerce (1756), перепечатано в: Josiah Tucker: A Selection from His Economic and Political Writings, ed. R.L. Schuyler (New York, 1931), p. 31, 92: «Главное не в том, чтобы уничтожить или ослабить себялюбие, но в том, чтобы придать ему такую направленность, при которой оно может способствовать общественному интересу при преследовании своего собственного… Действительная цель настоящей главы, собственно, и состоит в том, чтобы показать, как универсальный движитель человеческой натуры, себялюбие, может в рассматриваемом случае (как и во всех прочих) получить такую направленность, что будет служить общественным интересам благодаря тем усилиям, которые оно станет возбуждать при преследовании своего собственного интереса». Adam Smith, Wealth of Nations (1776), ed. Cannan, I, 421: «…направляя эту промышленность таким образом, чтобы ее продукт обладал максимальной ценностью, он преследует лишь собственную выгоду, причем в этом случае, как и во многих других, он невидимой рукой направляется к цели, которая совсем и не входила в его намерения; при этом общество не всегда страдает от того, что эта цель не входила в его намерения. Преследуя свои собственные интересы, он часто более действенным образом служит интересам общества, чем тогда, когда сознательно стремится делать это». (Рус. пер.: Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М., «Соцэкгиз», 1962, с. 332.) Ср. также: The Theory of Moral Sentiments (1795), part IV (9th ed., 1801), ch. i, p. 386. (Рус. пер.: Смит А. Теория нравственных чувств. М., «Республика», 1997.) Edmund Burke, Thoughts and Details on Scarcity (1795), in Works (World’s Classics ed.), VI, 9: «Милостивый и мудрый распорядитель всех вещей, который понуждает людей, хотят они того или нет, связывать при преследовании собственных эгоистических интересов общее благо со своим индивидуальным успехом». После того как эти утверждения стали предметом презрения и насмешек со стороны большинства авторов в течение последних ста лет (K.Э.Рэйвен (C.E.Raven) не так давно называл цитировавшееся последним утверждение Бёрка «вредной сентенцией» — см. его Christian Socialism [1920], p. 34), интересно теперь наблюдать, как один из ведущих теоретиков современного социализма усваивает выводы Адама Смита. Согласно А.П. Лернеру (The Economics of Control [New York, 1944], p. 67), первостепенная полезность ценового механизма для общества заключается в том, что «если он правильно используется, то побуждает каждого члена общества делать в погоне за собственной выгодой то, что соответствует всеобщему общественному интересу. В своей основе это — великое открытие Адама Смита и физиократов».]; а также, что спонтанное сотрудничество свободных людей часто создает вещи более великие, чем их индивидуальные умы смогут когда-либо постичь в полной мере. Это великая тема Джозайи Такера и Адама Смита, Адама Фергюсона и Эдмунда Бёрка, великое открытие классической политической экономии, ставшее основой нашего понимания не только экономической жизни, но и большинства подлинно социальных явлений.
Различие между этим взглядом, согласно которому бульшая часть порядка, обнаруживаемого нами в людских делах, есть непредвиденный результат индивидуальных действий, и другим, который возводит весь существующий порядок к преднамеренному замыслу, составляет первый глубокий контраст между истинным индивидуализмом британских мыслителей XVIII в. и так называемым «индивидуализмом» картезианской школы. [Ср. Schatz, op. cit., p. 41—42, 81, 378, 568—69, особенно место, цитировавшееся им (p. 41, n. 1) из статьи Альбера Сореля («Comment j’ai lu la «Reforme sociale»» в Rйforme sociale, November 1, 1906, p. 614): «Каким бы ни было в то время мое почтение, к тому же в значительной мере внушенное и опосредованное, к «Рассуждению о методе», я уже знал, что из этого прославленного рассуждения проистекло столько же общественного безрассудства и метафизических нелепиц, абстракций и утопий, сколько и положительных установлений, что, ведя к Конту, оно привело также к Руссо». О влиянии Декарта на Руссо см. также: P.Janet, Histoire de la science politique (3d ed., 1887), p. 423; F.Bouillier, Histoire de la philosophie cartesienne (3d ed., 1868), p. 643; и H.Michel, L’Idee de l’etat (3d ed., 1898), p. 68.] Но это только один аспект еще более широкого различия между взглядом, вообще оценивающим довольно низко роль разума в людских делах и утверждающим, что человек достиг всего несмотря на то, что он лишь отчасти руководим разумом, к тому же крайне ограниченным и несовершенным, и взглядом, согласно которому все люди всегда в полной и равной мере обладают Разумом с большой буквы и все, чего достигает человек, есть прямой результат работы индивидуального разума и, соответственно, подчинено его контролю. Можно даже сказать, что первый взгляд — это продукт острого осознания ограниченности индивидуального ума и вызванного этим чувства смирения перед безличными и анонимными общественными процессами, посредством которых индивиды создают вещи более великие, чем доступно их пониманию, тогда как второй — это продукт неумеренной веры в силы индивидуального разума и вытекающего отсюда презрения ко всему, что не было им сознательно спроектировано и не вполне для него постижимо.
Антирационалистический подход, в соответствии с которым человек не высокорациональное и непогрешимое, а достаточно иррациональное и подверженное заблуждениям существо, индивидуальные ошибки которого корректируются только в ходе общественного процесса и которое стремится создать самое лучшее из очень несовершенного материала, представляет собой, вероятно, наиболее характерную черту английского индивидуализма. Мне кажется, что его преобладание в английской мысли обусловлено глубоким влиянием Бернарда Мандевиля, впервые ясно сформулировавшего эту центральную идею. [Ключевое значение Мандевиля в истории экономической теории, долго не принимавшееся во внимание и оцененное по достоинству лишь несколькими авторами (в частности, Эдвином Кэннаном и Альбером Шатцем), теперь начинает признаваться в основном благодаря великолепному изданию «Басни о пчелах», которым мы обязаны покойному Ф.Б.Кэйе. Хотя главнейшие идеи Мандевиля уже обозначены в первом издании «Басни» 1705 г., решающая разработка и в особенности полно выраженный взгляд на происхождение разделения труда, денег и языка встречается только во II ее части, увидевшей свет в 1723 году (см.: Bernard Mandeville, The Fable of the Bees, ed. F.B. Kaye [Oxford, 1924], II, 142, 287-88, 349-50). (Рус. пер. первой части: Мандевиль Б. Басня о пчелах. М., «Мысль», 1974.) Здесь есть место только для того, чтобы процитировать решающий пассаж из его обзора развития разделения труда, где он замечает, что «…мы часто приписываем превосходству человеческого гения и глубине его проницательности то, что в действительности обязано долгому времени и опыту многих поколений, очень мало отличавшихся друг от друга по природным способностям и благоразумию» (ibid., p. 142). Стало уже привычным характеризовать Джамбаттиста Вико и его лозунг (обычно неверно цитируемый) — homo non intelligendo fit omnia — все творится человеком не разумеющим (Opere, ed., Ferrari [2d ed., Milan, 1854], V, 183), как начало антирационалистической теории общественных явлений, однако представляется, что Мандевиль не только опередил, но и превзошел его. Вероятно, заслуживает упоминания и то, что не только Мандевиль, но и Адам Смит занимает почетное место в разработке теории языка, которая в столь многих отношениях поднимает проблемы, сходные по своей природе с теми, что ставят другие общественные науки.]
Чтобы полнее показать противоположность картезианского, или рационалистического, «индивидуализма» такому подходу, я приведу знаменитый пассаж из II части «Рассуждения о методе» Декарта. Он доказывает, что «часто творение, составленное из многих частей и сделанное руками многих мастеров, не столь совершенно, как творение, над которым трудился один человек». Далее он переходит к мысли (что примечательно — после того, как приводит пример с инженером, по плану которого возводится город) о том, что «народы, бывшие в полудиком состоянии и лишь постепенно цивилизовавшиеся и учреждавшие свои законы только по мере того, как бедствия от совершаемых преступлений и возникавшие жалобы принуждали их к этому, не могут иметь такие же хорошие гражданские порядки, как те, которые соблюдают установления какого-нибудь мудрого законодателя с самого начала своего объединения». И, доводя свою мысль до конца, Декарт добавляет, что, по его мнению, «Спарта была некогда в столь цветущем состоянии не оттого, что законы ее были хороши каждый в отдельности… но потому, что все они, будучи составлены одним человеком, направлялись к одной цели» [Rene Descartes, A Discourse on Method (Everyman’s ed.), p.10—11. (Рус. пер.: Декарт Р. Сочинения. М., «Мысль», 1989, Т.1, с. 256—257)].
Было бы интересно проследить дальнейшее развитие такого рода индивидуализма, связанного с идеей общественного договора и «проектными» теориями («design» theories) общественных институтов от Декарта через Руссо и французскую Революцию, до специфически инженерного подхода к социальным проблемам, существующего в наши дни. [О специфическом подходе к экономическим явлениям, свойственном инженерному сознанию, см. мою работу: Scientism and the Study of Society, Economica, Vols. IX-XI (new ser., 1942—44), особ. ХI, 34 ff.] Подобный очерк обнаружил бы, как картезианский рационализм постоянно оказывался серьезным препятствием на пути понимания исторических явлений и что он в значительной степени ответствен за веру в неумолимые законы исторического развития и за современный фатализм, который от нее произошел. [Со времени первой публикации этой лекции я познакомился с поучительной статьей Джерома Розенталя (Jerome Rosenthal) «Attitudes of Some Modern Rationalists to History» (Journal of the History of Ideas, IV, No. 4 [October, 1943], 429—56), в которой довольно детально описывается антиисторическая позиция Декарта и особенно его ученика Мальбранша и приводятся интересные примеры презрения, выражавшегося Декартом в его «Разыскании истины посредством естественного света», к изучению истории, языка, географии и особенно классической литературы.]
Однако нам здесь важно только то, что данный взгляд, хотя и известный как «индивидуализм», являет собой полную противоположность истинному индивидуализму в двух решающих пунктах. В то время как в отношении псевдоиндивидуализма совершенно справедливо, что «представление о спонтанных социальных образованиях было логически невозможно для всех философов, бравших за отправной пункт отдельного человека и считавших, что он создает общества путем объединения своей частной воли с другой через формальный договор» [James Bonar, Philosophy and Political Economy (1893), p. 85], истинный индивидуализм есть единственная теория, имеющая право утверждать, что делает формирование спонтанных социальных образований понятным. Тогда как «проектные» теории неизбежно ведут к заключению, что общественные процессы можно заставить служить людским целям, только если они поставлены под контроль индивидуального человеческого разума, и тем самым прямиком ведут к социализму, истинный индивидуализм, напротив, полагает, что, если предоставить людям свободу, они зачастую достигнут большего, чем мог бы спроектировать или предвидеть индивидуальный человеческий ум.
Эта противоположность между истинным, антирационалистическим, и ложным, рационалистическим, индивидуализмом пронизывает всю общественную мысль. Но поскольку обе теории приобрели известность под одним и тем же именем и частично потому, что на экономистов классической школы XIX в., в особенности на Джона Стюарта Милля и Герберта Спенсера, французская традиция повлияла почти так же сильно, как английская, всевозможные концепции и предположения, совершенно чуждые истинному индивидуализму, стали восприниматься как неотъемлемые части этого учения.
Вероятно, лучшим примером неверных представлений об индивидуализме Адама Смита и его единомышленников служит ходячая вера в то, что они выдумали пугало «экономического человека» и что их выводы подрываются их же предположением о строго рациональном поведении и вообще ложной рационалистической психологией. Конечно же, они были крайне далеки от предположений подобного рода. Будет куда правильнее сказать, что с их точки зрения человек по природе ленив и склонен к праздности, недальновиден и расточителен и что только силой обстоятельств его можно заставить вести себя экономно и осмотрительно, дабы приспособить его средства к его же целям. Но даже сказанное нами не точно передает чрезвычайно сложные и реалистические взгляды этих мыслителей на природу человека. Поскольку вошло в моду высмеивать Смита и его современников за их якобы ошибочную психологию, я готов, пожалуй, рискнуть и высказать мнение, что для любых практических задач мы все еще можем больше узнать о поведении человека из «Богатства народов», чем из большинства претенциозных современных трактатов по «социальной психологии».
Как бы там ни было, почти не вызывает сомнений, что Смита главным образом интересовало не столько то, чего человек мог бы время от времени достигать, когда он бывает на высоте, сколько то, чтобы у него было как можно меньше возможностей наносить вред, когда он оказывается несостоятелен. Вряд ли будет преувеличением утверждать, что основное достоинство индивидуализма, отстаивавшегося Смитом и его современниками, заключается в том, что это порядок, при котором дурные люди способны причинять наименьшее зло. Это социальная система, функционирование которой не требует, чтобы мы нашли добродетельных людей для управления ею или чтобы все люди стали лучше, чем они есть теперь, но которая использует людей во всем их разнообразии и сложности: иногда хорошими, иногда дурными, порой умными, но чаще глупыми. Их целью была система, предоставляющая свободу всем, а не только «добродетельным и мудрым», как того желали их французские современники. [А.У.Бенн (A.W.Benn) в своей «History of English Rationalism in the Nineteenth Century» (1906) справедливо говорит: «У Кенэ следовать природе означало выяснять путем изучения окружающего нас мира и его законов, какое поведение наиболее способствует здоровью и счастью, а естественные права означали свободу следования установленному таким образом пути. Такая свобода принадлежит исключительно мудрым и добродетельным и может быть дарована только тем, кого опекающая власть в государстве соблаговолит признать таковыми. С другой стороны, у Адама Смита и его учеников природа означает всю совокупность импульсов и инстинктов, которые движут индивидуальными членами общества; они утверждают, что лучшие установления возникают благодаря свободной игре этих сил — при уверенности в том, что частичная неудача будет более чем компенсирована успехами в другом месте и что преследование каждым своего собственного интереса обернется наибольшим счастьем для всех» (I, 289). Подробнее по этому вопросу см.: Elie Halйvy, The Growth of Philosophic Radicalism (1928), esp. p. 266-70. Противоположность между шотландскими философами XVIII в. и их французскими современниками выявляется также в недавней работе Глэдис Брайсон (G. Bryson) «Man and Society: The Scottish Enquiry of the Eighteenth Century» (Princeton, 1945), p. 145. Она подчеркивает, что шотландские философы «все хотели покончить с картезианским рационализмом с его упором на абстрактный интеллектуализм и врожденные идеи», и неоднократно отмечает «антииндивидуалистические» тенденции у Дэвида Юма (p. 106, 155) — используя слово «индивидуалистический» в том смысле, который мы здесь называем ложным, рационалистическим. Но иногда она впадает в распространенную ошибку, рассматривая их как «типичных представителей мысли того века» (p. 176). Еще существует чрезмерная склонность, главным образом в результате принятия немецкой концепции «Просвещения», считать взгляды всех философов XVIII в. сходными, тогда как во многих отношениях расхождения между английскими и французскими философами данного периода гораздо более серьезны, нежели сходства. Распространенная привычка смешивать воедино Адама Смита и Кенэ, вызванная прежней верой в то, что Смит был многим обязан физиократам, безусловно должна исчезнуть теперь, когда это убеждение было опровергнуто недавним открытием У.Р.Скотта (W.R.Scott) (см. его: «Adam Smith as Student and Professor» [Glasgow, 1937], p. 124). Важно также, что побуждением к работе как для Юма, так и для Смита послужило, как сообщают, их неприятие Монтескье. В работе Рудольфа Голдшaйда (R.Goldsheid) «Grundlinien zu einer Kritik der Willenskraft» (Vienna, 1905), pp. 32—37, можно найти заставляющий задуматься анализ различий между британскими и французскими социальными философами XVIII в., искаженный, однако, неприязнью автора к «экономическому либерализму» британцев.]
Главной заботой великих индивидуалистов было действительно отыскать набор институтов, которые могли бы побуждать человека по его собственному выбору и на основании мотивов, направляющих его обычное поведение, вносить максимально возможный вклад в удовлетворение потребностей всех остальных; их открытием стало то, что система частной собственности обеспечивает такие побуждения в гораздо большей мере, чем это представляли до тех пор. Они не заявляли, однако, что эту систему невозможно далее улучшать и, еще менее, как утверждают те, кто ныне искажают их мысли, что, независимо от действующих институтов, существует «естественная гармония интересов». Они прекрасно сознавали конфликты индивидуальных интересов и подчеркивали настоятельную потребность в «правильно построенных институтах», когда «правила и принципы по согласованию соперничающих интересов и нахождению компромиссов в том, что касается преимуществ» [Edmund Burke, Thoughts and Details on Scarcity (1795), in Works (World’s Classics ed.), VI, 15], примиряли бы конфликтующие интересы и исключали бы возможность предоставления какой-либо одной группе такой власти, которая позволила бы ей всегда ставить свои взгляды и интересы выше всех остальных.
4
В этих исходных психологических предпосылках есть один момент, который необходимо рассмотреть более полно. Поскольку убеждение, что индивидуализм одобряет и поощряет человеческий эгоизм, является одной из основных причин неприязни к нему со стороны столь многих людей и поскольку существующая здесь путаница вызвана реальными интеллектуальными затруднениями, мы должны тщательно исследовать смысл выдвигаемых им предположений. Безусловно, нельзя усомниться, что великие авторы XVIII в. преподносили, если воспользоваться их языком, в качестве «всеобщего движителя» именно «себялюбие» человека или даже его «своекорыстные интересы» и что в подобных выражениях они описывали прежде всего моральную позицию, которую считали широко распространенной. Эти термины, однако, не означали эготизма в узком смысле, то есть озабоченности исключительно непосредственными нуждами своей собственной личности. «Я» (self), о котором, как предполагалось, только и заботятся люди, естественным образом распространялось на семью и друзей, так что для хода рассуждений этих авторов не имело бы никакого значения, если бы туда же оказалось включено что угодно, к чему люди реально питают интерес.
Гораздо более важным, чем эта моральная позиция, которую можно считать поддающейся пересмотру, является тот неоспоримый факт нашей умственной жизни, отменить который никому не под силу и который сам по себе представляет достаточное основание для выводов, сделанных философами-индивидуалистами. Он заключается в конститутивной ограниченности знаний и интересов человека — в том, что человек не в состоянии знать больше крохотной частицы всего общества в целом и что, следовательно, мотивами для него могут становиться лишь ближайшие результаты его действий в той сфере, которая ему знакома. Когда речь идет о социальной организации, любые возможные расхождения в моральных установках людей оказываются гораздо менее значимы, чем тот факт, что человеческий ум может эффективно охватывать лишь явления того узкого круга, центром которого сам он является, и что, будь он полным эгоистом или совершенным альтруистом, те людские потребности, о которых он способен эффективно позаботиться, составляют крайне малую частицу нужд и потребностей всех членов общества. Стало быть, настоящий вопрос заключается не в том, руководствуется или должен ли руководствоваться человек эгоистическими побуждениями, но в том, можем ли мы позволить ему руководствоваться в своих действиях теми их непосредственными последствиями, которые он осознает и которые его волнуют, или же его следует заставить делать то, что представляется надлежащим кому-то еще, кто якобы обладает более полным пониманием значения этих действий для общества в целом.
К общепринятой христианской традиции, считающей, что человек должен иметь свободу следовать своей совести в вопросах нравственности, дабы его действия обладали каким-либо достоинством, экономисты добавили еще один аргумент: человек должен иметь свободу полностью использовать свои знания и мастерство, ему надо позволить руководствоваться своим интересом к определенным вещам, которые он знает и которые ему небезразличны, дабы он настолько содействовал достижению общих целей общества, насколько это в его силах. Главная проблема для них — как превратить эти ограниченные интересы, фактически определяющие действия людей, в эффективные стимулы, побуждающие их добровольно вносить максимальный вклад в удовлетворение потребностей, находящихся вне поля их зрения. Экономисты поняли впервые, что уже возникший рынок представлял собой действенный путь к тому, чтобы понудить человека принять участие в процессе, более сложном и широком, чем он в состоянии постичь, и что именно рынок направляет его к «цели, которая совсем и не входила в его намерения».
Было почти неизбежно, что авторы-классики при объяснении своей позиции начнут пользоваться языком, который непременно станут неверно понимать, и что таким образом они обретут репутацию людей, превозносящих эгоизм. Причина этого сразу же становится ясной, стоит нам попытаться передать правильный ход их мысли более простым языком. Если мы выразимся кратко, сказав, что люди руководствуются и им следует руководствоваться в своих действиях собственными интересами и желаниями, это немедленно будет неверно понято и переиначено в ложное утверждение, что они руководствуются и должны руководствоваться исключительно своими личными потребностями или эгоистическими интересами, тогда как мы имеем в виду, что им следует позволить стремиться к чему бы то ни было, что они находят желательным.
Еще одна вводящая в заблуждение фраза, используемая для того, чтобы подчеркнуть действительно важный момент, — это знаменитое предположение, что всякий человек лучше кого бы то ни было знает свои интересы. В подобной форме оно звучит неправдоподобно и не является необходимым для выводов индивидуалиста. Действительная их основа заключается в том, что никто не в состоянии знать, кто же знает это лучше всех, и единственный способ, каким можно это выяснить, — через социальный процесс, где каждому предоставлена возможность попытаться и удостовериться, на что он годен. Фундаментальная предпосылка здесь и во всех последующих рассуждениях — это безграничное разнообразие человеческих талантов и навыков и вытекающее отсюда неведение любого отдельного индивида относительно большей части того, что известно всем остальным членам общества вместе взятым. Или, если выразить эту фундаментальную мысль иначе, человеческий Разум с большой буквы не существует в единственном числе, как данный или доступный какой-либо отдельной личности, что, по-видимому, предполагается рационалистическим подходом, но должен пониматься как межличностный процесс, когда вклад каждого проверяется и корректируется другими. Этот тезис не предполагает, что все люди равны по своим природным дарованиям и способностям, а означает только, что ни один человек не правомочен выносить окончательное суждение о способностях, которыми обладает другой человек, или выдавать разрешение на их применение.
Здесь, пожалуй, стоит заметить, что только потому, что все люди в действительности не являются одинаковыми, мы можем рассматривать их как равных. Если бы все люди были совершенно одинаковы в своих дарованиях и склонностях, нам надо было бы относиться к ним по-разному, чтобы достичь хоть какой-то формы социальной организации. К счастью, они неодинаковы, и только благодаря этому дифференциация функций не нуждается в том, чтобы ее устанавливало произвольное решение некоей организующей воли. При установлении формального равенства перед законами, применяемыми ко всем одинаково, мы можем позволить каждому индивиду самому занять подобающее ему место.
В этом, собственно, и состоит вся разница между равным отношением к людям и попытками сделать их равными. В то время как первое есть условие свободного общества, второе означает, по выражению Токвиля, «новую формулу рабства». [Эта фраза вновь и вновь используется Токвилем при характеристике последствий социализма. См., в частности, «Oeuvres completes», где он говорит: «Если бы, в конце концов, мне пришлось предложить общую формулу, передающую, чем мне представляется социализм в его целостности, я бы сказал, что это новая формула рабства».].
5
Осознание ограниченности индивидуального знания и тот факт, что никакой человек или небольшая группа людей не может обладать всей полнотой знаний кого-либо другого, приводит индивидуализм к его главному практическому заключению: он требует строгого ограничения всякой принудительной или исключительной власти. Его возражения, однако, направлены только против использования принуждения для создания организации или ассоциации, но не против ассоциации как таковой. Индивидуализм далек от того, чтобы противостоять добровольному ассоциированию; напротив, его доводы основываются на представлении, что многое из того, что, по распространенному мнению, может быть осуществлено только с помощью сознательного управления, можно гораздо лучше достичь путем добровольного и спонтанного сотрудничества индивидов. Таким образом, последовательный индивидуалист должен быть энтузиастом добровольного сотрудничества — во всяком случае, пока оно не вырождается в насилие над другими людьми и не приводит к присвоению исключительной власти.
Истинный индивидуализм — это, безусловно, не анархизм, являющий собой всего лишь еще один плод рационалистического псевдоиндивидуализма, которому истинный индивидуализм противостоит. Он не отрицает необходимости принудительной власти, но желает ограничить ее — ограничить теми сферами, где она нужна для предотвращения насилия со стороны других, и для того, чтобы свести общую сумму насилия к минимуму. Надо признать, что, хотя все философы-индивидуалисты согласны, вероятно, с этой общей формулой, они не всегда достаточно содержательно высказываются по вопросу ее применения в конкретных случаях. Здесь не слишком-то помогает столь неверно понимаемый оборот, как «laissez faire», которым так много злоупотребляли, или еще более старая формула — «защита жизни, свободы и собственности». Фактически, поскольку оба этих выражения наводят на мысль, что мы можем оставить все как оно есть, они могут оказаться еще хуже, чем отсутствие ответа вообще; они, безусловно, не говорят нам, в каких сферах желательна и необходима деятельность правительства, а в каких нет. Тем не менее решение, может ли индивидуалистическая философия служить нам практическим руководством, должно в конечном счете зависеть от того, позволяет ли она нам разграничить то, что относится к компетенции правительства, от того, что к ней не относится.
Мне представляется, что некоторые общие правила такого рода, обладающие самой широкой применимостью, прямо вытекают из основных принципов индивидуализма: если каждый человек должен использовать свои личные знания и мастерство для достижения интересующих его целей и если он, действуя таким образом, должен вносить максимально возможный вклад в удовлетворение потребностей, выходящих за пределы его кругозора, то явно необходимо, во-первых, чтобы он имел четко очерченную сферу своей ответственности и, во-вторых, чтобы относительная важность для него различных результатов, которых он может достигать, соответствовала относительной важности для других людей тех последствий его деятельности, которые ему неизвестны и носят более отдаленный характер.
Обратимся сначала к проблеме определения сферы индивидуальной ответственности и отложим на время вторую проблему. Если человек должен быть свободен, чтобы полностью использовать свои знания и мастерство, то разграничение сфер ответственности не должно принимать форму предписывания ему определенных целей, которых он должен стараться достичь. Это было бы скорее навязыванием специфических обязанностей, нежели определением границ сферы ответственности. Это также не должно принимать форму передачи ему специфических ресурсов, отобранных некоей властью, что почти в той же мере лишало бы его выбора, как и навязывание ему определенных задач. Если человеку надлежит применять свои собственные дарования, то сфера его ответственности должна определяться в результате его собственной деятельности и планирования. Решение данной проблемы, которое люди постепенно раскрыли и которое предвосхищает появление государственного правления (government) в современном смысле, состоит в признании неких формальных принципов — «постоянного закона, общего для каждого в этом обществе» [John Locke, Two Treatises of Government (1690), Book II, chap. 4, » 22: «Свобода людей в условиях существования системы правления заключается в том, чтобы жить в соответствии с постоянным законом, общим для каждого в этом обществе и установленным законодательной властью, созданной в нем». (Рус. пер.: Локк Дж. Сочинения. М., «Мысль», 1988, Т. 3, с. 274—275.)], то есть правил, которые прежде всего и позволяют человеку проводить различие между «моим» и «твоим» и с помощью которых он и его собратья могут устанавливать, что составляет его сферу ответственности, а что — чью-либо еще.
Фундаментальная противоположность между правлением посредством правил, основная цель которых состоит в информировании индивида, что есть сфера его ответственности, в пределах каковой ему надлежит отстраивать свою жизнь, и правлением посредством приказов оказалась в последние годы настолько затемнена, что ее необходимо рассмотреть более подробно. Этот вопрос затрагивает не что иное, как различие между свободой в рамках закона и использованием законодательного механизма, будь то демократического или нет, для упразднения свободы. Суть не в том, что за действиями правительства должен стоять какой-либо руководящий принцип, но в том, что его деятельность должна сводиться к одному: заставлять индивидов соблюдать принципы, которые им известны и могут учитываться в их решениях. Это означает следующее: то, что индивид может или не может делать, и то, что, как он ожидает, станут или не станут делать его собратья, должно зависеть не от каких-то отдаленных и косвенных последствий его действий, но от непосредственных и легко распознаваемых обстоятельств, которые предположительно ему известны. Перед ним должны быть правила, касающиеся типических ситуаций и определенные в терминах того, что может быть знакомо действующим лицам безотносительно к отдаленным последствиям каждого конкретного случая, — правила, которые, если они постоянно соблюдаются, в большинстве случаев будут действовать благотворно, пусть даже в «затруднительных случаях» (hard cases), которые, по известной поговорке, «рождают плохие законы» (устанавливают неудачные прецеденты), этого и не происходит.
Главнейший принцип, лежащий в основании индивидуалистической системы, состоит в том, что она использует всеобщее признание некоторых универсальных принципов как средство создания порядка в общественных делах. Она противоположна такому правлению посредством принципов, которое, к примеру, подразумевается одним современным проектом контролируемой экономики, предлагающим как «фундаментальный организационный принцип… чтобы в каждом конкретном случае применялись средства, которые лучше всего служат интересам общества» [Lerner, op. cit., p. 5]. Полная нелепость так говорить о принципе, когда весь смысл сказанного сводится к тому, что править должен не принцип, а голая целесообразность, и когда все ставится в зависимость от того, чту именно власти декретируют в качестве «интересов общества». Принципы — это средство предотвращать столкновения конфликтующих устремлений, а не набор фиксированных целей. Наше подчинение общим принципам необходимо, поскольку в своей практической деятельности мы не можем исходить из полного знания и исчерпывающей оценки всех ее последствий. Покуда люди не обладают всеведением, единственный способ дать свободу индивиду — это очертить с помощью таких общих правил ту сферу, в пределах которой решение будет принадлежать ему самому. Свободы не может быть, когда правительство не ограничено каким-то определенным кругом деятельности, но может использовать свою власть любым образом, если это служит поставленным целям. Как указал давным-давно лорд Актон, «едва только какая-то единственная вполне определенная цель провозглашается высшей целью государства, будь то классовые преимущества, безопасность или могущество страны, наибольшее счастье наибольшего числа людей или борьба за утверждение какой-либо спекулятивной идеи, государство тотчас и с неизбежностью становится абсолютным» [Lord Acton, «Nationality» (1862), перепечатано в The History of Freedom and Other Essays (1907), p. 288. (Рус. пер.: Лорд Актон. Очерки становления свободы. L., Overseas Publications Interchange Ltd., 1992, p. 124.)].
6
Тем не менее если наш главный вывод состоит в том, что индивидуалистический порядок покоится на принуждении (enforcement) к соблюдению абстрактных принципов, а не к выполнению конкретных приказов, то все еще остается открытым вопрос, какого рода общие правила нам нужны. Допуская осуществление властных полномочий в основном одним-единственным методом, такой порядок предоставляет вместе с тем почти безграничное поле для человеческой изобретательности в конструировании наиболее эффективного набора правил. И хотя наилучшие решения конкретных проблем в большинстве случаев приходится открывать с помощью опыта, все-таки в том, что касается желательных характеристик и содержания таких правил, мы можем многое почерпнуть из общих принципов индивидуализма. Из сказанного прежде всего следует один важный вывод, а именно: поскольку правила должны служить для индивидов указателями при выстраивании их собственных планов, они должны устанавливаться так, чтобы оставаться в силе долгое время. Либеральная, или индивидуалистическая, политика, по существу, должна быть политикой долговременной. Нынешняя мода сосредоточиваться на краткосрочных результатах, оправдывая это тем доводом, что «в долгосрочном периоде все мы будем покойники» <Это выражение, ставшее крылатым, принадлежит Дж.М.Кейнсу. В нем обыгрывается введенное А.Маршаллом различение между долго- и краткосрочным периодом. (В долгосрочном периоде изменению поддаются затраты как постоянных, так и переменных факторов производства, в краткосрочном — только переменных.) Мысль Кейнса состоит в том, что поскольку в «очень» длительном периоде никого из нас уже не будет в живых, постольку при выработке политического курса во внимание следует принимать только его непосредственные, ближайшие результаты. Эта позиция была совершенно неприемлема для Ф.Хайека, всегда выступавшего за такое институциональное устройство, которое, несмотря на неизбежную ограниченность временнуго горизонта отдельных членов общества, побуждало бы их учитывать прежде всего долгосрочные последствия принимаемых решений. Ср. также: наст. изд., с. 252. (Прим. науч. ред.)>, неизбежно ведет к опоре на приказы, исходящие из конкретных сиюминутных обстоятельств, вместо правил, сформулированных в терминах типических ситуаций.
Нам нужна, однако, гораздо более определенная помощь для построения пригодной правовой рамки — и нам ее оказывают основополагающие принципы индивидуализма. Попытка заставить человека при преследовании своих собственных интересов вносить как можно больший вклад в удовлетворение потребностей других людей не только приводит к общему принципу «частной собственности». Она помогает нам также определить, каким должно быть содержание прав собственности в отношении разного рода вещей. Для того чтобы, принимая решения, индивид учитывал все порождаемые ими материальные последствия, нужно так определить упомянутую мной «сферу ответственности», чтобы она охватывала с максимально возможной полнотой все прямые последствия его действий в отношении получаемых другими людьми удовлетворений от подконтрольных ему вещей. Там, где речь идет о движимом имуществе или, как выражаются юристы, «движимости», это достигается в общем с помощью простого понятия о собственности как исключительном праве пользования конкретной вещью. Однако в связи с землей возникают гораздо более сложные проблемы, когда признание принципа частной собственности дает нам очень мало, пока мы точно не установим, какие права и обязанности собственность включает. А когда мы обращаемся к таким недавно возникшим проблемам, как контроль за воздушным пространством или передачей электроэнергии, изобретениями или произведениями литературы и искусства, ничто, кроме обращения к рациональному обоснованию (rationale) принципа частной собственности, не поможет нам решить, какой должна быть в каждом конкретном случае сфера контроля или ответственности индивида.
Я не могу здесь углубляться далее в увлекательную проблему о наиболее подходящей для эффективной индивидуалистической системы правовой рамке или входить в обсуждение многочисленных вспомогательных функций, выполняя которые правительство может намного повысить эффективность индивидуальной деятельности, например содействуя распространению информации и устраняя неопределенность, которой действительно можно избежать. [Действия, которые правительство может целенаправленно предпринимать по сокращению той неопределенности для индивида, которая действительно поддается устранению, — это вопрос, породивший столько путаницы, что я боюсь оставлять в тексте краткое упоминание о нем без хотя бы некоторых дополнительных разъяснений. Суть дела в том, что хоть и легко защитить отдельного человека или отдельную группу от потерь, которые могут быть вызваны непредвиденными изменениями, мешать людям замечать эти изменения, когда они произошли, значит просто перекладывать эти потери на плечи других людей, но не предотвращать их. Если, например, капитал, вложенный в очень дорогостоящий завод, защищен от обесценения под влиянием новых изобретений благодаря запретам на их внедрение, то это повышает защищенность владельцев данного завода, но лишает общество выгод от новых изобретений. Или, другими словами, если мы сделаем поведение людей более предсказуемым, мешая им приспосабливаться к непредвиденным изменениям в их знаниях о мире, реально это не сократит неопределенность для общества в целом. Подлинное сокращение неопределенности состоит всегда в увеличении знания и никогда — в препятствовании использованию людьми новых знаний.] Я упоминаю их только для того, чтобы подчеркнуть, что, помимо простого принуждения к соблюдению норм гражданского и уголовного права, у государства есть дополнительные (причем ненасильственные) функции и они вполне поддаются оправданию с точки зрения индивидуалистических принципов.
Остается, однако, один момент, который я уже упоминал, но который столь важен, что на нем следует остановиться особо. Он состоит в том, что любой работоспособный индивидуалистический порядок должен быть построен таким образом, чтобы не только относительное вознаграждение, ожидаемое индивидом от того или иного употребления своих способностей и ресурсов, соответствовало относительной полезности результатов его усилий для других людей, но и чтобы это вознаграждение соответствовало объективным результатам его усилий, а не их субъективным достоинствам. Эффективный конкурентный рынок удовлетворяет обоим данным условиям. Тем не менее именно в связи со вторым из них наше личное чувство справедливости так часто восстает против безличных решений рынка. И все же, если индивиду надо иметь свободу выбора, он неизбежно должен нести риск, с этим выбором связанный, и вознаграждаться не в зависимости от добродетельности или порочности его намерений, но исключительно исходя из ценности полученных результатов для других людей. Мы должны прямо признать, что сохранение индивидуальной свободы несовместимо с полным удовлетворением наших стремлений к распределительной справедливости.
7
Хотя теория индивидуализма способна, таким образом, внести определенный вклад в технику построения соответствующей правовой рамки и в усовершенствование институтов, сложившихся спонтанно, особое значение она, конечно, придает тому факту, что та часть нашего общественного порядка, которая может или должна быть сознательным продуктом человеческого разума, представляет лишь малую толику всех сил общества. Иными словами, государство, воплощающее преднамеренно организованную и сознательно контролируемую власть, должно составлять только небольшую часть гораздо более богатого организма, называемого «обществом», обеспечивая лишь ту правовую рамку, в пределах которой свободное (и, следовательно, не «управляемое сознательно») сотрудничество людей имело бы максимальный простор.
Это влечет за собой определенные выводы, где истинный индивидуализм опять-таки резко противостоит ложному индивидуализму рационалистического толка. Первый из них заключается в том, что сознательно организованное государство, с одной стороны, и индивид, с другой, вовсе не считаются единственными реальностями, что предполагало бы необходимость последовательного искоренения всех промежуточных образований и ассоциаций (это и было одной из целей французской Революции). Непринудительные обычаи и условности, присущие социальному взаимодействию, рассматриваются как неотъемлемые факторы сохранения упорядоченной работы человеческого общества. Второй вывод состоит в том, что индивид, участвуя в общественных процессах, должен хотеть и быть готовым приспосабливаться к переменам и подчиняться обычаям и условностям, которые не являются плодом сознательного замысла, существование которых в отдельных случаях может не поддаваться разумному объяснению и которые часто представляются ему непонятными и иррациональными.
Мне нет нужды продолжать разговор о первом моменте. Было бы излишне еще раз подчеркивать, что истинный индивидуализм утверждает ценность семьи и любых совместных усилий небольшой общины или группы, что он убежден в необходимости местной автономии и добровольных ассоциаций и что его доводы действительно в значительной мере основаны на том, что многого, для чего обращаются обычно к принудительной деятельности государства, можно скорее добиться при помощи добровольного сотрудничества. Не может быть большей противоположности этому, чем ложный индивидуализм, который хочет растереть все эти небольшие группы до атомов, ничем между собой не скрепленных, кроме навязанных государством принудительных правил, и который пытается сделать все общественные связи предписываемыми вместо того, чтобы использовать государство прежде всего для защиты индивида от присвоения прав на принуждение более мелкими группами.
Для функционирования индивидуалистического общества столь же важны, наряду с этими более мелкими объединениями людей, те традиции и обычаи, которые складываются в свободном обществе и, не будучи принудительными, создают гибкие и обычно соблюдаемые правила, делая поведение окружающих людей достаточно высоко предсказуемым. Готовность подчиняться таким правилам не только когда человек понимает их обоснованность, но до тех пор, пока он не находит веских доводов против них, является важнейшим условием постепенной эволюции и усовершенствования норм социального взаимодействия. Готовность обыкновенно подчиняться результатам общественного процесса, который никем не замышлялся и оснований которого может никто не понимать, также есть необходимое условие возможности обходиться без принуждения. [Различие между рационалистическим и истинно индивидуалистическим подходами хорошо видно из разнообразных мнений, выражавшихся французскими наблюдателями по поводу видимой иррациональности английских общественных институтов. Например, жалобы Анри де Сен-Симона на то, что «сотни томов in folio, мельчайшим шрифтом, не хватило бы, чтобы перечислить все органические несообразности, существующие в Англии» (Oeuvres de Saint-Simon et d’Enfantin [Paris, 1865-78], XXXVIII, 179), Токвиль парирует тем, что «…эти странности англичан могут иметь какое-то отношение к их свободам» (L’Ancien regime et la revolution [7th ed.; Paris, 1866], p.103). (Рус. пер.: Токвиль А. Старый порядок и революция. М., Московский философский фонд, 1997, с. 61.)] То, что существование общепринятых условностей и традиций позволяет группе работать вместе эффективно и без трений при гораздо меньшей степени формальной организации и принуждения, чем группе, не имеющей такой общей подосновы, — это, конечно, банальность. Однако обратное утверждение хотя и менее привычно, но, вероятно, не менее справедливо: похоже, только в обществе, где условности и традиции сделали поведение человека в значительной мере предсказуемым, насилие может быть сведено к минимуму. [Нужно ли еще раз цитировать Эдмунда Бёрка, чтобы напомнить читателю, каким важнейшим условием возможности существования свободного общества он считал силу моральных правил? «Подготовленность людей к гражданской свободе прямо пропорциональна их расположенности накладывать моральные цепи на собственные аппетиты; и пропорциональна тому, насколько их любовь к справедливости выше их жадности; пропорциональна тому, насколько их здравое и трезвое мышление выше их тщеславия и самонадеянности; пропорциональна тому, насколько они расположены предпочитать советы мудрых и добродетельных лести плутов» (A Letter to a Member of the National Assembly [1791], in Works [World’s Classics ed.], IV, 319).]
Это приводит меня ко второму моменту: к необходимости индивидуального подчинения анонимным и внешне иррациональным социальным силам в любом сложном обществе, где последствия деятельности всякого человека выходят далеко за рамки его кругозора, — подчинения, которое должно включать не только признание правил поведения как имеющих силу, без выяснений, что именно зависит от их соблюдения в каждом конкретном случае, но и готовность приспосабливаться к переменам, причины которых могут быть совершенно непонятны человеку, но при этом глубоко влиять на его судьбу и открытые перед ним возможности. Именно против этих вещей склонен восставать современный человек, если ему не продемонстрировать, что их необходимость покоится на «основании, ясном и очевидном для каждого индивида». Однако тут-то понятное желание вразумительных объяснений и порождает иллюзорные требования, которые никакая система не в состоянии удовлетворить. У человека в сложном обществе нет другого выбора, как только между приспособлением к тому, что должно казаться ему слепыми силами социального процесса, и подчинением приказам вышестоящих. Пока ему знакома только жесткая дисциплина рынка, он вполне может считать предпочтительным управление со стороны какого-либо более могучего человеческого ума; но, испробовав это, он вскоре обнаруживает, что первое все-таки оставляет ему хоть какой-то выбор, тогда как последнее не дает никакого, и что лучше иметь выбор между несколькими неприятными альтернативами, чем быть принудительно загнанным в какую-то одну.
Нежелание терпеть или уважать любые общественные силы, которые нельзя счесть плодом разумного замысла, будучи важнейшей причиной нынешней жажды всеобъемлющего экономического планирования, является, в сущности, лишь одним из аспектов более общего движения. Мы встречаем ту же тенденцию в области нравов и обычаев, в желании заменить существующие языки искусственным и во всем современном подходе к процессам, управляющим ростом знания. Убеждение, что только синтетическая система нравственности, искусственный язык или даже искусственное общество имеют право на существование в век науки, равно как и растущее нежелание подчиняться любым моральным нормам, чья полезность не доказана рационально, или соблюдать обычаи, чьи разумные основания не видны, — это проявления все той же исходной установки, требующей, чтобы любые виды социальной активности выступали как части единого согласованного плана. Они представляют собой следствие все того же рационалистического «индивидуализма», жаждущего во всем видеть продукт сознающего индивидуального разума. Они, конечно же, не являются детищем истинного индивидуализма и могут даже затруднять или делать невозможной работу истинно индивидуалистической системы. В самом деле, великий урок, который дает нам на этот счет философия индивидуализма, состоит в том, что, хотя и нетрудно разрушить добровольные формирования, составляющие незаменимую опору свободной цивилизации, нам может оказаться не по силам сознательно воссоздать такую цивилизацию после того, как ее фундамент был разрушен.
8
Положение, которое я попытаюсь доказать, хорошо иллюстрируется следующим очевидным парадоксом: хотя немцев обычно считают очень послушными, их нередко характеризуют и как крайних индивидуалистов. Не без оснований этот так называемый немецкий индивидуализм зачастую приводят как одну из причин, почему немцам никогда не удавалось развить свободные политические институты. В рационалистическом смысле слова немецкая интеллектуальная традиция в своем настаивании на развитии «самобытной» личности, которая во всех отношениях была бы продуктом сознательного выбора самого индивида, действительно поощряет тип «индивидуализма», мало известный где-либо еще. Я хорошо помню, как сам был удивлен и даже шокирован, когда, еще молодым студентом, при первом знакомстве с английскими и американскими сверстниками обнаружил, насколько они были готовы считаться во всех внешних проявлениях с общепринятыми условностями вместо того, чтобы, как мне казалось естественным, гордо быть непохожими и оригинальными почти во всем. Если вы сомневаетесь в значимости моего личного опыта, то найдете полное ему подтверждение в большинстве немецких дискуссий по поводу, например, английской системы закрытых школ (взять хотя бы известную книгу Дибелиуса об Англии [W.Dibelius, England (1923), pp. 464-68, английский перевод 1934 г.]). Вновь и вновь вы будете сталкиваться с той же вызывающей удивление склонностью к добровольному подчинению и обнаруживать контраст со стремлением молодого немца развить «самобытную» личность, в мельчайших проявлениях выражающую то, что он счел правильным и истинным. Этот культ особой, отличающейся от всех индивидуальности, несомненно, глубоко уходит корнями в немецкую интеллектуальную традицию, а через влияние некоторых величайших ее представителей, особенно Гёте и Вильгельма фон Гумбольдта, он проник далеко за пределы Германии и ясно виден в трактате Дж.С.Милля «О свободе».
Этот сорт «индивидуализма» не только не имеет ничего общего с истинным индивидуализмом, но в действительности может оказаться серьезным препятствием для слаженной работы индивидуалистической системы. Приходится оставить открытым вопрос, можно ли заставить успешно работать свободное, или индивидуалистическое, общество, если люди слишком «индивидуалистичны» в превратном смысле, если они совершенно не склонны добровольно подчиняться традициям и условностям и если они отказываются признавать все, что не спроектировано сознательно или рациональность чего не может быть продемонстрирована всем и каждому. Понятно, во всяком случае, что преобладание «индивидуализма» такого сорта часто заставляло людей доброй воли отчаиваться в возможности достижения порядка в свободном обществе и даже вынуждало их требовать диктаторского правления, наделенного властью навязывать обществу порядок, который оно не в состоянии создать само.
В Германии, в частности, это предпочтение организации сознательной и соответствующее презрение к организации спонтанной и неконтролируемой подкреплялось сильнейшей склонностью к централизации, которую породила борьба за объединение нации. В стране, где имевшиеся традиции носили, по сути, местный характер, стремление к единству подразумевало систематическое противодействие почти всему, что вырастало спонтанно, и неуклонное замещение этого искусственными учреждениями. Поэтому нам не следовало, вероятно, так уж сильно удивляться, что в процессе, метко названном современным историком «отчаянным поиском традиции, которой у них не было» [E.Vermeil, Germany’s Three Reichs (London, 1944), p. 224], немцам было уготовано кончить созданием тоталитарного государства, навязавшего им то, чего, как они чувствовали, им не хватало.
9
Если верно, что прогрессирующая тенденция к централизованному контролю над всеми общественными процессами есть неизбежный результат подхода, настаивающего на том, что все должно быть аккуратно спланировано и являть собой видимый невооруженным глазом порядок, то верно также, что эта тенденция ведет к созданию условий, при которых только всесильное центральное правительство способно сохранять порядок и стабильность. Концентрация всех решений в руках власти сама по себе порождает такое положение вещей, когда та структура, которая еще остается у общества, оказывается навязанной ему государством, а индивиды становятся взаимозаменяемыми единицами, не имеющими иных определенных и устойчивых отношений друг с другом, кроме установленных организацией, объемлющей всё и вся. На жаргоне современных социологов такой тип общества стал известен как «массовое общество» — несколько обманчивое название, поскольку характерные признаки подобного общества являются не столько результатом просто больших чисел, сколько результатом отсутствия у него какой-либо спонтанно сложившейся структуры, кроме той, что навязана ему сознательной организацией, его неспособности углублять свою внутреннюю дифференциацию с вытекающей отсюда зависимостью от власти, целенаправленно его формирующей и перекраивающей. Это связано с большими числами лишь постольку, поскольку в крупных странах процесс централизации будет гораздо быстрее достигать момента, когда сознательная организация сверху задушит спонтанные формирования, основанные на контактах более близких и личных, чем те, что могут существовать в крупных единицах.
Неудивительно, что в XIX веке, когда эти тенденции впервые отчетливо заявили о себе, противостояние централизации стало одной из основных забот философов-индивидуалистов. Это противостояние особенно заметно в трудах двух великих историков, которых я ранее выделил как ведущих представителей истинного индивидуализма в XIX веке, — Токвиля и лорда Актона; оно нашло отражение в их симпатиях к малым странам и к федеративному устройству больших. В наше время есть еще больше оснований полагать, что малые страны вскоре станут последними оазисами, сохраняющими свободное общество. Может быть, уже слишком поздно, чтобы остановить неотвратимый ход прогрессирующей централизации в более крупных странах, настолько далеко зашедших по пути создания такого массового общества, что деспотизм начинает в конце концов представляться последним спасением. Смогут ли хотя бы малые страны избежать такой судьбы, зависит от того, останутся ли они свободными от яда национализма, являющегося и стимулом, и результатом все того же стремления к обществу, сознательно организуемому сверху.
Отношение индивидуализма к национализму, интеллектуально являющемуся не чем иным, как близнецом социализма, заслуживает специального обсуждения. Здесь я могу только упомянуть, что фундаментальное различие между тем, что в XIX веке считалось либерализмом в англоговорящем мире, и тем, что носило это название на континенте, тесно связано с их происхождением от истинного индивидуализма и ложного рационалистического индивидуализма соответственно. Только либерализм в английском смысле всегда противостоял централизации, национализму и социализму, тогда как либерализм, господствовавший на континенте, содействовал всем трем. Я должен, однако, добавить, что в этом отношении, как и во многих других, Джон Стюарт Милль и произошедший от него более поздний английский либерализм принадлежат, по меньшей мере, в равной степени и континентальной, и английской традиции; и я не знаю лучшего освещения фундаментальных расхождений между ними, чем критика лордом Актоном уступок, сделанных Миллем националистическим тенденциям континентального либерализма [Lord Acton, «Nationality», (1862), reprinted in The History of Freedom, pp. 270—300. (Рус. пер.: Лорд Актон. Назв. соч., с. 102—138.)].
10
Расхождение между двумя видами индивидуализма обнаруживается еще по двум пунктам, и здесь наиболее показательна та позиция, которую заняли лорд Актон и Токвиль по отношению к тенденциям, выступившим в то время на первый план, — их взгляды на соотношение демократии и равенства. Истинный индивидуализм не только верит в демократию, но вправе утверждать, что демократические идеалы происходят из основных принципов индивидуализма. Тем не менее, хотя индивидуализм утверждает, что всякое правление должно быть демократическим, у него нет суеверного преклонения перед всемогуществом решений большинства. В частности, он отказывается признать, что «абсолютная власть может — в случае получения ее из рук народа — быть столь же легитимной, как и конституционная свобода» [Lord Acton, «Sir Erskine May’s Democracy in Europe» (1878), reprinted in The History of Freedom, p. 78.]. Он убежден, что при демократии не менее, чем при любой другой форме правления, «сфера действия принудительных распоряжений должна быть ограничена жесткими рамками» [Lord Acton, Lectures on Modern History (1906), p. 10]; он особенно враждебно относится к наиболее роковому и опасному из всех ходячих ложных представлений о демократии — убеждению, что нам надлежит принимать мнения большинства как истинные и обязательные для дальнейшего развития. Хотя демократия основывается на конвенции, что мнение большинства является решающим в отношении коллективных действий, отсюда не следует, что сегодняшнее мнение большинства должно приниматься всеми — даже если бы это оказалось необходимо для достижения целей большинства. Напротив, все оправдание демократии покоится на том факте, что с течением времени сегодняшнее мнение ничтожного меньшинства может стать мнением большинства. Я серьезно считаю, что один из наиболее важных вопросов, на который политической теории предстоит найти ответ в ближайшем будущем, состоит в том, чтобы нащупать демаркационную линию между теми сферами, где взгляды большинства должны быть обязывающими для всех, и теми, где, напротив, надо дать простор мнению меньшинства, если это может привести к результатам, лучше удовлетворяющим потребности людей. Помимо того, я убежден, что там, где затронуты интересы конкретной отрасли коммерции, мнение большинства всегда будет реакционным и косным и что достоинство конкуренции состоит именно в предоставлении меньшинству возможности восторжествовать. В тех случаях, когда меньшинство может достигать этого без какого-либо применения силы, оно всегда должно иметь такое право.
Нет лучшего способа выразить общее отношение истинного индивидуализма к демократии, чем процитировать еще раз лорда Актона. Он писал: «Истинно демократический принцип, что никто не должен властвовать над народом, означает, что никто не сможет ограничить его власть или уклониться от нее. Истинно демократический принцип, что народ не должен принуждаться делать то, что ему не нравится, означает, что ему никогда не придется терпеть то, что ему не нравится. Истинно демократический принцип, что воля каждого человека должна быть освобождена от оков настолько, насколько возможно, означает, что свободная воля всего народа не будет скована ничем» [Lord Acton, «Sir Erskinе May’s Democracy in Europe», перепечатано в The History of Freedom, pp. 93—94].
Однако когда мы обращаемся к равенству, следует сразу сказать, что истинный индивидуализм не является эгалитарным в современном смысле слова. Он не видит причин пытаться делать всех людей равными — в отличие от того, чтобы обращаться с ними как с равными. Индивидуализм глубоко враждебен любым предписанным привилегиям, всякой защите, будь то законом или силой, любых прав, не основанных на правилах, равно применимых ко всем людям; и он отказывает также правительству в праве накладывать ограничения на то, чего может достичь талантливый или удачливый человек. Он равно враждебен любым попыткам жестко ограничивать положение, которого могут достигать индивиды — независимо от того, используется при этом власть для увековечения неравенства или для создания равенства. Его главный принцип заключается в том, что ни один человек или группа людей не должны обладать властью решать, каков должен быть статус другого человека, и он считает это настолько существенным условием свободы, что им недопустимо жертвовать для удовлетворения нашего чувства справедливости или нашей зависти.
С точки зрения индивидуализма не могло бы, по-видимому, существовать никакого оправдания даже тому, чтобы заставлять всех индивидов начинать с одних и тех же стартовых позиций, не давая им пользоваться теми преимуществами, которые они ничем не заработали, как, например, появление на свет от родителей более умных или более добросовестных, чем в среднем. В этом индивидуализм действительно менее «индивидуалистичен», чем социализм, поскольку считает семью столь же легитимной единицей, как и индивида. Это верно и в отношении иных групп, как, например, языковые или религиозные общины, которым совместными усилиями удается в течение долгого времени сохранять для своих членов материальные или моральные стандарты, до которых далеко остальному населению. Токвиль и лорд Актон говорят об этом в один голос. Токвиль писал: «Демократия и социализм не имеют ничего общего, кроме одного слова — равенство. Отметьте, однако, различие: тогда как демократия добивается равенства в свободе, социализм добивается равенства в ограничениях и рабстве» [Alexis de Tocqueville, Oeuvres complиtes, IX, 546]. И Актон присоединялся к нему, считая, что «глубочайшей причиной, сделавшей французскую Революцию столь гибельной для свободы, была ее теория равенства» [Lord Acton, «Sir Erskinе May’s Democracy in Europe», перепечатано в The History of Freedom, p.88] и что «благоприятнейшая возможность из когда-либо открывавшихся миру… была упущена из-за страсти к равенству, погубившей надежды на свободу» [Lord Acton, «The History of Freedom in Christianity» (1877), перепечатано в The History of Freedom, p. 57. (Рус. пер. Лорд Актон. Назв. соч., с.98.)].
11
Можно было бы долго еще разбирать другие различия между двумя традициями мысли, которые, хотя и носят одинаковое имя, разделены фундаментально противоположными принципами. Но я не должен позволять себе далеко отклоняться от своей основной задачи — проследить до самых истоков возникшую из-за этого путаницу и показать, что существует одна последовательная традиция — согласны вы со мной или нет в том, что она есть «истинный» индивидуализм, — являющаяся во всяком случае единственным видом индивидуализма, который я готов отстаивать и который, я считаю, действительно можно последовательно защищать. Так позвольте мне вернуться в заключение к тому, с чего я начал: фундаментальная позиция истинного индивидуализма состоит в смирении перед процессами, благодаря которым человечество достигло вещей, которых никто не замышлял и не понимал и которые действительно превосходят своей мощью индивидуальный разум. В данный момент важнейший вопрос заключается в том, будет ли человеческому разуму позволено и далее развиваться как части этого процесса, или же ему предстоит опутать себя оковами, сотворенными им самим.
Индивидуализм учит нас, что общество — это нечто более великое, чем человек, только пока оно свободно. Покуда оно контролируется или управляется, оно ограничено мощью контролирующих его или управляющих им индивидуальных умов. Если современное мышление, в своей самонадеянности не относящееся с уважением ни к чему, что не контролируется сознательно индивидуальным разумом, не поймет со временем, где надо остановиться, мы можем, как предупреждал Эдмунд Бёрк, «быть совершенно уверены, что все вокруг нас будет постепенно приходить в упадок, пока наконец наши дела и интересы не сморщатся до размеров наших мозгов».
Что такое «индивидуализм» и «разумный эгоизм»
Систематизация и связиОснования философии
Диалектика
Логика
Социальная философия
Философское творчество
Социология
Теория разумности эгоизма, выразившаяся в индивидуализме, придумана холуями капиталистов для оправдания своего убого желания жрать и спать за счёт других, взвалив весь тяжкий труд на плечи пролетариата, и это очень легко доказать, рассмотрев сам индивидуализм, как понятие с огромным количеством противоречий.
Индивидуализм (фр. individualisme, от лат. individuum — неделимое) — моральное, политическое и социальное мировоззрение (философия, идеология), которое подчеркивает индивидуальную свободу, первостепенное значение личности, личную независимость в рамках конституционного правопорядка. Индивидуализм противопоставляет себя идее и практике подавления личности обществом или государством. Индивидуализм — есть противоположность коллективизма и его разновидностей. (Википедия).
Слово индивидуум, лежащее в основе слова индивидуализм, с латыни переводится, как неделимый, точно так же, как и греческое слово атом.
В марксизме понятие индивид принято для обозначения человека, взятого вне его противоположности, вне коллектива. Буржуазная философия абсолютизирует это понятие, убеждая, что каждый индивид настолько своеобразен, что, практически, не поддается социализации иначе, как через право, т.е. принуждение. Марксизм рассматривает индивида как единичного человека, основные свойства которого предопределены всей системой общественных отношений. Сегодня нет индивида, который бы заново изобрел свой язык, свою арифметику и алгебру, заново открыл бы законы Ньютона. Единственное, что может сегодня индивид, это изобрести новую религию, но не идею самого бога. Она уже придумана. Современному индивиду приходится очень много лет учиться, чтобы освоить что-либо из арсенала знаний накопленных человечеством, а уж сказать новое слово в науке, технике или искусстве удается, буквально, отдельным индивидам.
Уже отсюда ясно, что индивидуализм не может быть «социальным» или «моральным» мировоззрением, так как и то, и другое подразумевает влияние общества на индивида, его тесную связь с обществом, собственно, с чем «индивидуализм» всячески борется. Философией индивидуализм может выступать только спекулятивно, как способность индивида мыслить вообще, игнорируя положительный общественный опыт и, ни в коем случае, не может являться наукой, так как подобная философия всегда основана на идеалистическом (в той форме, что рассматривает значение личности выше значения общества) понимании сути происходящих событий или вещей, а настоящая наука стоит, как минимум, на экспериментальной основе, а в конечном итоге, на материалистических позициях.
Индивидуализм может использоваться, и используется, политическими течениями, например, либерализмом. Но это течение настолько же шатко, насколько некачествен фундамент самой философии индивидуализма, ведь он подразумевает свободу индивида от любого общественного влияния. Именно поэтому, современным конкретным буржуазным партиям, стоящим за идеологию индивидуализма, удается пробиться к власти только после того, как себя дискредитировала точно такая же, по сути, партия власти. Не может быть сколь-нибудь устойчивой организация, проповедующая индивидуализм и зовущая отпетых индивидуалистов к объединению вокруг общей идеи, которой не может существовать для индивидуалистов по определению. Да и КПСС перерождалась и деградировала по мере того, как в её идеологии укоренялся вопрос о хозрасчете и об использовании товарно-денежных отношений для стимулирования строителей коммунизма.
И совсем уж противоречива мысль о том, что индивидуализм предполагает «… индивидуальную свободу… и личную независимость в рамках конституционного правопорядка», при этом «индивидуализм противопоставляет себя идее и практике подавления личности обществом или государством». Индивидуальная свобода и личная независимость присутствовали всегда, даже во времена рабовладения они были, тогда же, кстати, появилось и право, более того, само государство возникло именно тогда, когда появилась необходимость в завоевании новых территорий с новыми рабами, а также в защите награбленного. А право распоряжаться индивидами, независимо от мнения индивида, имело лишь меньшинство рабовладельцев. Да и при капитализме, в течение всего рабочего дня, индивид или безраздельно подчиняется воле хозяина, или первым вылетает в бомжи.
Единственной научно-обоснованной идеологией для становления коллективизма, коренным интересом всего трудящегося народа, является коммунизм и, если учесть, что индивидуализм используется капиталистами, то противопоставление индивидуализма коллективизму необходимо рассматривать, как одну из составных частей классовой борьбы, в данном случае, капиталистов с пролетариатом
Индивидуализм — по отраслям / доктрине
Введение | Политический индивидуализмИндивидуализм — это моральное, политическое или социальное мировоззрение, которое подчеркивает человеческую независимость и важность личной самостоятельности и свободы . Он противостоит большинству внешнего вмешательства индивидуальному выбору, будь то со стороны общества, государства или какой-либо другой группы или учреждения ( коллективизм или этатизм ), а также возражает против точки зрения, что традиция , религия или любая другая форма внешнего морального стандарта должна использоваться, чтобы ограничить индивидуальный выбор действий.
Этический индивидуализм , таким образом, представляет собой позицию, согласно которой индивидуальное сознание или разум является моральным правилом только , и не существует никакого объективного авторитета или стандарта, который он обязан принимать во внимание. Его можно применить к морали шотландской школы здравого смысла конца 18 века, автономной морали Иммануила Канта и даже к древнегреческому гедонизму и эвдемонизму.
Некоторые индивидуалисты также являются эгоистами (этическая позиция, согласно которой моральные агенты должны делать все, что соответствует их личным интересам ), хотя обычно они не утверждают, что эгоизм по своей сути хорошо.Скорее, они будут утверждать, что люди не связаны обязанностями какой-либо морали, навязанной обществом, и что люди должны иметь свободу выбора , быть эгоистичными или нет.
Экзистенциалистской этике также свойственен акцент на моральном индивидуализме, особенно с учетом того, что она сосредоточена на субъективных, личных жизнях отдельных людей. Экзистенциализм утверждает, что не существует базовой и данной человеческой природы, которая является общей для всех людей , и поэтому каждый человек должен определить индивидуально , что человечество означает для них и какие ценности или цели будут доминировать в их жизни.
Термин «индивидуализм» впервые был использован французскими и британскими прото-социалистами, последователями Сен-Симона (1760–1825) и Роберта Оуэна (1771–1858), первоначально как уничижительный термин , и в основном в смысле Политический индивидуализм (см. раздел ниже). Американец XIX века Генри Дэвид Торо — , который часто называют как пример убежденного индивидуалиста. В популярном употреблении коннотации «индивидуализма» могут быть положительными или отрицательными , в зависимости от того, кто и как использует этот термин.
Политический индивидуализм — это теория, согласно которой состояние должно выполнять всего лишь оборонительную роль, защищая свободу каждого человека действовать так, как он или она, до тех пор, пока он или она не нарушает на та же свобода другого (по сути, позиция laissez-faire , лежащая в основе классического либерализма, либертарианства и современного капитализма). Он видит себя в фундаментальном противодействии таким концепциям, как «общественный договор» Жан-Жака Руссо , который утверждает, что каждый человек по неявному контракту должен подчинить свою собственную волю «общей воле» , а любая коллективистская идеология , такая как социализм или коммунизм.
Некоторые политические индивидуалисты придерживаются точки зрения, известной как Методологический индивидуализм , что общество (и правительство, если на то пошло) не имеет какого-либо существования или значения помимо совокупности индивидов , и, таким образом, не может быть правильно сказано. осуществлять действия или обладать умыслом . Некоторые даже используют радикальный подход, называемый Индивидуалистический анархизм (см. Анархизм), который утверждает, что преследование личных интересов не должно ограничиваться каким-либо коллективным органом или государственной властью, отказываясь принимать даже решения демократического правительства .
Методологический индивидуализм (Стэнфордская энциклопедия философии)
1. Истоки Доктрины
Фраза methodische Individualismus на самом деле была придумана Ученик Вебера Йозеф Шумпетер в своей работе 1908 года Das Wesen und der Hauptinhalt der Theoretischen Nationalökonomie . В первое использование термина «методологический индивидуализм» в Английский снова был написан Шумпетером в его ежеквартальном журнале за 1909 год. Доклад по экономике , «О концепции социальной ценности» (см. Udehn 2001, 214).Однако теоретическая разработка доктрина принадлежит Веберу, и Шумпетер использует этот термин как способ ссылаясь на веберианский взгляд.
В Экономика и общество Вебер формулирует центральную заповедь. методологического индивидуализма следующим образом: при обсуждении социальных явлений, мы часто говорим о различных «социальных коллективы, такие как государства, ассоциации, бизнес-корпорации, фондов, как если бы они были отдельными лицами »(Weber 1922, 13). Таким образом, мы говорим о том, что у них есть планы, выполняются действия, терпят убытки и т. д.Учение о методологической индивидуализм не возражает против этих обычных способов говоря, он просто оговаривает, что «в социологической работе эти коллективы должны рассматриваться исключительно как результат и способы организация отдельных действий отдельных лиц, поскольку эти одни могут рассматриваться как агенты в ходе субъективно понятное действие »(Weber 1922, 13).
Для Вебера приверженность методологическому индивидуализму очень тесно связан с обязательством verstehende (или интерпретативные) модели объяснения в социологии.Причина для привилегия индивидуального действия в социологическом объяснении заключается в том, что только действие «субъективно понятно». Вебер резервы термин «действие» для обозначения подмножества человеческого поведения что мотивировано лингвистически сформулированными или «Значимые» психические состояния. (Вообще говоря: кашель поведение, потом извинения — это действие.) терминологии, можно сказать, что определяющая характеристика действие состоит в том, что оно мотивировано ментальным состоянием с пропозициональным содержание, т.е., умышленное состояние. Важность действий для Вебера заключается в том, что у нас есть доступ к нему для интерпретации в силу нашего способность понять скрытый мотив агента. Это позволяет социолог, чтобы «достичь чего-то, что никогда не достижимые в естественных науках, а именно субъективные понимание действия составляющих индивидов »(Вебер 1922, 15). Теоретическое объяснение действия занимает центральное место в социально-научный анализ, потому что, не зная почему человек делают то, что они делают, мы не совсем понимаем почему любое из более масштабных явлений, с которыми они связаны происходить.
Таким образом, методологический индивидуализм — термин, слегка вводящий в заблуждение, поскольку цель не в том, чтобы отдавать предпочтение личности над коллективом в социально-научное объяснение, а скорее отдать предпочтение теоретико-практический уровень объяснения. Эта привилегия теоретико-практический уровень является методологическим, потому что он навязывается структура интерпретирующей социальной науки, цель которой — предоставить понимание социальных явлений. Действия могут быть понимается так, как не могут другие социальные явления, а именно потому что они мотивированы намеренными состояниями.Но только частные лица обладают интенциональными состояниями, и поэтому методологическая привилегия действия влекут за собой методологические привилегии лиц. Таким образом «индивидуализм» в методологическом индивидуализме — это больше побочный продукт его центральной теоретической приверженности, чем мотивирующий фактор. Это то, что пытались защитить защитники учения. общаться с большей или меньшей степенью успеха, требуя что он политически или идеологически нейтрален.
Стоит подчеркнуть разницу между методическими индивидуализм, в смысле Вебера, и старые традиции атомизма (или безусловный индивидуализм) в социальных науках.Многие писатели утверждают, что нашли истоки методологического индивидуализма среди экономисты австрийской школы (особенно Карл Менгер) и доктрины, сформулированные во время Methodenstreit 1880-х гг. (Удэн 2001). Другие прослеживают это до Томаса Гоббса, а «Разрешительно-композиционный» метод, разработанный в открытии. секции Leviathan (Lukes 1968, 119). Тем не менее Отличительный характер этого типа атомизма резюмировался довольно очевидно, Гоббсом, с его предписанием «рассматривать людей так, как если бы но даже сейчас возник из-под земли и внезапно (как Мушромы) прийти к полной зрелости без всякого взаимодействия с каждым прочее »(1651, 8: 1).Атомистическая точка зрения основана на предположение, что можно разработать полную характеристику индивидуальной психологии, которая является полностью досоциальной, затем вывести, что произойдет, когда группа лиц, охарактеризованных таким образом, войдет в взаимодействие друг с другом. Методологический индивидуализм, на с другой стороны, не предполагает обязательств по какому-либо конкретному требованию о содержании намеренных состояний, которые мотивируют людей, и, таким образом, остается открытым для возможности того, что человеческий Психология может иметь неснижаемое социальное измерение.Таким образом, один из способов подчеркивая разницу между атомизмом и методологическим индивидуализм заключается в том, чтобы отметить, что первое влечет за собой полное сокращение от социологии к психологии, тогда как последняя — нет.
Наконец, следует отметить, что приверженность Вебера методологическому индивидуализм тесно связан с его более известными методологическими учение, а именно теория идеальных типов. Историческое объяснение может сделайте ссылку на фактическое содержание намеренных состояний, которые мотивировали конкретных исторических акторов, но социолог заинтересованы в создании более абстрактных пояснительных обобщения, и поэтому не могут апеллировать к конкретным мотивам отдельные лица.Таким образом, социологическая теория должна основываться на модель человеческого действия. И из-за ограничений, которые требует интерпретации, эта модель должна быть моделью рациональное человеческое действие (Вебер пишет: «удобно лечить все иррациональные, эмоционально детерминированные элементы поведения как факторы отклонения от концептуально чистого типа рационального действие »[1922, 6].)
Таким образом, одно из важнейших следствий методологического подхода Вебера. индивидуализм состоит в том, что он ставит теорию рационального действия в основу социально-научное исследование.Вот почему последующие поколения социальные теоретики под влиянием Вебера стремились добиться методологическое объединение социальных наук путем производства того, что стала известна как «общая теория действия» — тот, который расширил бы экономическую модель действий таким образом, чтобы включить центральные теоретические идеи действия (в первую очередь) социологи, антропологи и психологи. Работа Талкотта Парсонс в первой половине века был самым важным в в этом отношении, когда движение за объединение достигло своего апогея в совместная публикация в 1951 г. из К общей теории Действие , совместно редактируемое Парсонсом и Эдвардом Шилсом.Но вскоре впоследствии, частично из-за проблем с программой унификации, Парсонс отказался от приверженности как методологическому индивидуализму. и теория действия, придерживающаяся чисто теоретико-системной точки зрения. Это привело к полному провалу в проекте создания общей теории действие, пока оно не было возобновлено в 1981 году публикацией Юргена Хабермаса Теория коммуникативности Действие .
2. Австрийская школа и
MethodenstreitНикогда не ускользало от чьего-либо внимания, что дисциплина, которая больше всего явно удовлетворяет ограничения методологического индивидуализма. микроэкономика (в традициях неоклассического маржинализма) и что homo economicus — наиболее четко сформулированная модель рациональное действие.Конечно, эта традиция не всегда была в господство в экономической профессии. В частности, есть многие из тех, кто чувствовал, что макроэкономика может быть полностью самостоятельная область исследования (отраженная в том факте, что Учебную программу бакалавриата по экономике по-прежнему часто делят на «Микро» и «макро»). Всегда были тем, кто хотел бы построить график движения бизнес-цикла, или фондового рынка, полностью игнорируя мотивы что отдельные актеры могут иметь за то, что они делают.Сходным образом, многие пытались обнаружить корреляцию между макроэкономическими переменные, такие как уровень безработицы и инфляции, не чувствуя необходимость размышлять о том, почему изменение одной ставки может привести к движение в другом. Таким образом, всегда было очень оживленное дебаты в экономической профессии о ценности Модель «рационального действующего лица», лежащая в основе общей теория равновесия.
Одна из первых версий этой дискуссии произошла во время так называемый Methodenstreit между членами австрийской Школа экономики и Немецкая историческая школа.Однако участники «первого поколения» австрийской школы, такие как Карл Менгер, были атомистами (Менгер защищал свой индивидуалистический метод с точки зрения концептуальных выгод, достигнутых за счет «сокращения сложных явления к их элементам »[Menger 1883, 93]). Это было только представители второго поколения, в первую очередь Фридрих фон Хайека, которые явно идентифицировали себя с веберианцами учение о методологическом индивидуализме и защищать его через ссылка на требования интерпретирующей социальной науки.Ключевой текст это статья Хайека «Сциентизм и изучение общества», выпущен в сериале Economica (1942–44), а затем опубликован как первая часть Контрреволюция науки (1955).
По мнению Хайека, стремление социологов к подражание физическим наукам создает преувеличенный страх перед телеологические или «целевые» концепции. Это приводит к тому, что многие экономистам избегать любых ссылок на намеренные состояния и сосредотачиваться чисто на основе статистических корреляций между экономическими переменными.В Проблема с этим фокусом в том, что он оставляет экономические явления неразборчиво. Возьмем, к примеру, движение цен. Можно заметьте постоянную корреляцию между датой первых заморозков и колебания цен на пшеницу. Но на самом деле мы не понять феномен, пока он не будет объяснен в условия рациональных действий экономических агентов: ранние заморозки снижает урожайность, что ведет к менее интенсивной ценовой конкуренции между поставщиков, больше среди потребителей и т. д.Таким образом, Хайек настаивает на том, что в эффект, весь макроэкономический анализ является неполным из-за отсутствия «Микро» основы.
Однако важно отметить, что, хотя у Хайека есть модель рациональное действие как центральный элемент его взглядов, его наиболее категорически не форма рационализма. Напротив, он ставит особый упор на то, как различные экономические явления могут возникают как непредвиденные последствия рационального действия. Несмотря на то результаты, которых достигают люди, могут не иметь ничего общего с теми что они предназначались, по-прежнему важно знать, что они думали, что они делают, когда они решили продолжить курс действия, которые они выбрали — не в последнюю очередь потому, что важно знать, почему они упорствуют в таком образе действий, несмотря на тот факт, что это не приводит к ожидаемым последствиям.
Конечно, одна из причин, по которой Хайек поддерживал методологические индивидуализма и требуя, чтобы социально-научные объяснения определить механизм на теоретико-практическом уровне: он хочет подчеркивать ограничения индивидуального актера перспектива. Можно говорить о таких макроэкономических переменных, как «Уровень инфляции», но важно помнить, что отдельные участники (вообще говоря) не реагируют напрямую на такие индикаторы. Все, что они видят, — это изменения в текущих ценах. что они должны платить за производственные ресурсы или потребительские товары, и это то, на что они отвечают.Масштабные последствия выбор, который они делают в ответ на эти изменения, в значительной степени непреднамерен, и поэтому любая закономерность в этих последствиях представляет собой спонтанный порядок. Это ключевой элемент аргументации Хайека, основанной на информации. для капитализма: экономические субъекты не имеют доступа к тем же информации как экономических теоретиков, таким образом, это только тогда, когда мы видим операции экономики через их глаза, которые мы можем начать видеть преимущества децентрализованной системы координации, такие как рынок.
Чтобы проиллюстрировать важность точки зрения человека, Хайек приводит пример процесса, который приводит к развитию тропинка в лесу. Один человек прокладывает себе путь, выбирая маршрут с наименьшим местным сопротивлением. Его проход сокращается, хоть и незначительно, но сопротивление оказывалось на этом пути к следующему человек, который ходит, поэтому делает такой же набор решения, скорее всего, пойдут по тому же маршруту. Это увеличивает шансы что следующий человек сделает это, и так далее.Таким образом, чистый эффект все эти люди проходят через то, что они «делают путь », даже если никто не собирается это делать, и нет можно даже спланировать его траекторию. Это продукт спонтанного приказ: «Передвижение людей по округе соответствует определенный образец, который, хотя и является результатом осознанных решений многих людей, еще никем сознательно не разработан » (Хайек 1942, 289).
Проблема игнорирования точки зрения агента, по мнению Хайека, заключается в что это может легко привести нас к переоценке наших способностей рационального мышления. планирование и контроль и, таким образом, впасть в «рационализм».” Напротив, центральное достоинство методологического индивидуализма — что это помогает нам увидеть ограничения нашего собственного разума (Hayek 1944, 33). Формулирование теорий, непосредственно относящихся к «интересам темп », или« инфляционное давление », или« уровень безработицы »может ввести нас в заблуждение, заставив думать, что мы можем манипулировать этими переменными и, таким образом, успешно вмешиваться в экономия. Мы забываем, что эти концепции — абстракции, используемые не для того, чтобы направлять индивидуальные действия, а скорее описывать чистый эффект миллионы индивидуальных решений.Ключевая характеристика методологический индивидуализм состоит в том, что он «систематически запускает из концепций, которыми руководствуются люди в их действиях, а не по результатам их теоретических рассуждений о своих действиях »(1942, 286). Поэтому, по мнению Хайека, он призывает к большей скромности с уважение к социальному планированию.
Хайек не упоминает о методологическом индивидуализме после 1950-е годы. В самом деле, роль, которую эволюционные объяснения играют в его более поздняя работа подразумевает молчаливое опровержение его приверженности учение.
3. Поиск объяснений «каменного дна»
На протяжении многих лет термин методологический индивидуализм ассоциировался в первую очередь с работами Карла Поппера. Это связано с обширным споры, вызванные статьями Поппера «Бедность Историзм »(1944/45), а затем его книга Открытое общество. и его враги (1945). Поппер, однако, хотя и использовал термин, мало что сделал для защиты его приверженности ему. Вместо этого он ушел эту работу своему бывшему ученику Дж.W.N. Watkins. Это была дискуссия между Уоткинсом и его критиками, которые (возможно, несправедливо) укрепили ассоциация в умах многих людей между Поппером и методологическими индивидуализм. (Именно эти дебаты привели учение к всеобщее внимание философов.)
К сожалению, версия методологического индивидуализма Поппера завещанный своему ученику Уоткинсу было значительно труднее защищать, чем тот, который он унаследовал от Хайека. С самого начала считалось, что принципы методологического индивидуализма налагается особыми требованиями социальных наук.Для обоих Вебера и Хайека, это было отражением ключевого различия между Geisteswissenschaften и Naturwissenschaften . Поппер, однако, отрицает существование любые существенные методологические различия между ними. Верно, его первоначальное обсуждение методологического индивидуализма в «The Бедность историзма »встречается в разделе« The Единство метода », в котором он утверждает, что оба просто в дело «причинного объяснения, предсказания и тестирование.»(1945, 78). Он продолжает отрицать это «Понимание» играет особую роль в социальном науки.
Проблема, которую это создает для доктрины методологического индивидуализм очевиден. Социальная наука, цель которой интерпретация, или которая использует интерпретацию как часть центральной части объяснительной стратегии, имеет очень ясную методологическую причину для привилегированных объяснений, относящихся к отдельным действиям — поскольку именно лежащие в основе интенциональные состояния служат объект интерпретации.Но если социологи просто в бизнес по предоставлению причинных объяснений, как естественный ученых, тогда каково обоснование привилегии отдельных действия в этих объяснениях? Кажется, больше нет методологические причины для этого. Таким образом, критики, такие как Леон Гольдштейн (1958), а позже Стивен Льюкс (1968), утверждали, что методологический индивидуализм на самом деле был лишь косвенным способом утверждение приверженности метафизическому или онтологическому индивидуализм.Другими словами, «методологические индивидуализм »на самом деле было заявлением о том, что мир «На самом деле» состояло из не более чем причудливого способа говоря, что «общества не существует». Уоткинс пошел чтобы усилить это впечатление, переформулируя тезис как утверждают, что «основные составляющие социального мира отдельные люди »(1957, 105).
Уоткинс также вызвал сомнения в методологическом статусе исследования. принцип, проводя различие между «незавершенным» и «незавершенным» объяснения »социальных явлений, которые могут не указывать теоретико-действенный или индивидуалистический механизм, и так называемые «Глубокие объяснения», которые могли бы (1957, 106).Все же при этом он допускает, что эти промежуточные объяснения (пример он дает взаимосвязь между инфляцией и безработицей. рейтинг), хотя они могут не сказать нам все, что мы хотели бы знать, не должно быть бессмысленным или ложным. Это создает проблемы, как сказал Ларс Уден. указывает, поскольку сам факт, что один может объяснить социальные явления с точки зрения индивидов «не подразумевает методологическое правило, что они должны быть объяснены таким образом » (2001, 216) — особенно если «на полпути» полученных знаний достаточно для нашего (вненаучного) целей.
Наконец, следует отметить, что Поппер ввел контраст между методологический индивидуализм и «психологизм», т. е. точка зрения, что «все законы социальной жизни должны быть в конечном итоге сводимы психологическим законам «человеческой природы» (1945, 89). Тем не менее, по формулировке Поппера, методологические индивидуализм кажется эквивалентным по крайней мере некоторой форме психологический редукционизм. По крайней мере, его формулировка — и позже Уоткинс — оставил многих комментаторов в недоумении по поводу того, как мог подтвердить первое, не принимая во внимание второе (Udehn 2001, 204).В более общем плане это создало большую путаницу в отношении разницы между методологическим индивидуализмом и атомизмом (Hodgson 2007, 214).
4. Возрождение рационального выбора
И для Хайека, и для Поппера основной мотивацией уважения заветы методологического индивидуализма состояли в том, чтобы избегать «великих теория »в стиле Огюста Конта, G.W.F. Гегель и Карл Маркса. Тем не менее, побуждение к тому, чтобы избежать такой великой теории, было не столько потому, что это продвигало плохую теорию, сколько потому, что это продвигало привычки разума, например «коллективизм», «Рационализм» или «историзм», которые были считается, что способствует тоталитаризму.Таким образом, грехи «Коллективизм» и «коллективистская» мысль модели, как для Хайека, так и для Поппера, были в первую очередь политическими. Тем не менее, как время шло, и опасность ползучего тоталитаризма в западных странах общества становились все более отдаленными, страх коллективизма, который лежали в основе дебатов о методологическом индивидуализме. все более ослабевает.
Таким образом, беспокойство о методологическом индивидуализме начало исчезать, и мог бы полностью исчезнуть, если бы не внезапное взрыв интереса к теории игр (или «рациональный выбор теория ») среди социологов в 1980-е годы.Причина для это можно описать двумя словами (и статьёй): заключённый дилемма. Социологи всегда знали, что люди в группы способны застрять в паттернах коллективного саморазрушительное поведение. Пол Самуэльсон «Чистая теория Государственные расходы »(1954),« Трагедия »Гаррета Хардина. Палаты общин »(1968), и работа Манкура Олсона « Логика Коллективное действие (1965) предоставило очень четкие примеры случаи, когда простое наличие общих интересов среди людей тем не менее не смог обеспечить им стимул к выполнению действия, необходимые для реализации этого интереса.Что за история дилемма заключенного и, что более важно, сопутствующая игра матрица — была простая, но мощная модель, которую можно было используется для представления структуры всех этих взаимодействий (см. Р. Хардин 1982).
Это, в свою очередь, дало новый импульс методологическому индивидуализму, потому что это позволяло теоретикам ставить диагноз с беспрецедентной точностью ошибки, к которым социальные теоретики могли (и часто приводили), если бы они игнорировали теоретический уровень анализа.Методологические стал важным индивидуализм, а не как способ избежать политического мысленное преступление «коллективизма», а скорее как способ избегая явно ошибочных выводов о динамике коллективное действие. Например, традиционный «интерес групповая »теория демократической политики обычно предполагает, что группы, разделяющие общие интересы, также имеют стимул продвигать этот интерес, лоббируя политиков, финансируя исследования и т. д. на. Главный вклад Олсона заключался в том, чтобы довести до конца мысль о том, что наличие такого общего интереса так же часто порождает поощрение безбилетников.Частным лицам было бы полезно продвигать этот интерес, но они выиграют даже на больше , сидя назад, в то время как другие участники группы действовали для его продвижения. Как результат, никто не может действовать для его продвижения. Однако Олсон ограничился этим наблюдение за большими группами. С другой стороны, дилемма заключенного. рука, продемонстрировала повсеместность этой структуры стимулов.
Вклад Джона Эльстера в историю методологической на этом фоне следует понимать индивидуализм.Он представляет доктрина как часть дружеской, но резкой критики использования функционалистских объяснений в марксистской традиции; особенно те, кто пытается объяснить события как те, которые «служат интересы капитала ». Проблема с этими объяснениями, Эльстер утверждает, что они « постулируют цель без целенаправленный субъект »(1982, 452), и поэтому (он утверждает) влекут за собой приверженность некоторой форме объективной телеологии. В себе, в этой критике очень мало нового.Как отмечает Г.А. Коэн утверждал, что в его ответ Эльстеру, нет причин, по которым марксист функционалист не может дать «уточнений» (Cohen 1982, 131) этих объяснений, которые определяют, как выгода произведенный вызывает явление, без ссылки на какую-либо цель телеология. Это можно было сделать либо путем обращения к преднамеренному механизм на уровне теории действия или же дарвиновский Механизм «отбора» (Коэн 1982, 132). В таких случаях, Критика функционального объяснения Эльстером становится просто еще одним версия спроса Уоткинса на «дно», а не на «Половинчатые» объяснения.
Таким образом, атака Эльстера была столь сильной не из-за обвинений в объективная телеология в марксистской теории, а скорее предположение, что большая часть марксистского «классового анализа» упускает из виду потенциал для проблем коллективных действий среди различных всемирно-исторических актеры. Рассмотрим, например, известное утверждение, что капиталисты сохранить «резервную армию безработных», чтобы снизить заработную плату. Это означает, что отдельные капиталисты должны прекратить нанимать новых работников в момент, когда предельные выгоды все еще превышают предельные издержки.Что у них для этого стимул? У них есть очевидный стимул для безбилетников продолжать нанимать, поскольку выгоды из-за заниженной заработной платы в основном будут пользоваться конкурирующими фирмами, тогда как выгоды от дальнейшего найма будут влиять на чистую прибыль. Другими словами, тот факт, что это отвечает «интересам капитал »иметь резервную армию безработных не означает что у отдельных капиталистов есть стимул предпринять шаги необходимо поддерживать такую резервную армию.
Еще более тревожное следствие «рационального выбор »- это наблюдение, что рабочий класс сталкивается с серьезной проблемой коллективных действий, когда дело доходит до выполнения социалистическая революция (Elster 1982, 467).Разжигание революции может быть опасным бизнесом и, следовательно, отсутствовать какой-либо другой стимул (например, классовая солидарность), даже рабочие, которые были уверены, что коммунист экономический порядок мог бы предложить им более высокое качество жизни, возможно, не появляться на баррикадах. Однако эти возможности были в значительной степени игнорируется, предполагает Эльстер, потому что неуважение заповеди методологического индивидуализма, наряду с беспорядочными связями использование функционального объяснения привело поколения марксистских теоретики просто игнорируют фактические стимулы, с которыми сталкиваются люди в конкретных социальных взаимодействиях.
Помимо критики функциональных объяснений, Эльстер не выдвигать любые оригинальные аргументы в поддержку методологических индивидуализм. Однако он возвращается к более раннему веберианскому формулировка позиции с упором на умышленное действие (Elster 1982, 463): «Элементарная единица социальной жизни — это индивидуальное человеческое действие », — утверждает он. «Чтобы объяснить социальные институтов и социальных изменений — показать, как они возникают в результате действий и взаимодействия людей.Этот взгляд, часто называемый методологическим индивидуализмом, на мой взгляд, тривиально правда »(Эльстер, 1989, 13). Здесь следует предположить, что когда он говорит «Тривиально верно», он использует термин в просторечии чувство «банальности», а не философское чувство «тавтологичности», поскольку он продолжает выводить ряд очень существенных доктрин из его приверженности методологический индивидуализм. Например, он продолжает претендовать на различные моменты, которые методологический индивидуализм обязывает его психологический редукционизм по отношению к социологии (хотя он не предлагает аргументов в пользу этого утверждения).
Эльстер не проводит столь резких различий, как мог бы. между приверженностью методологическому индивидуализму и приверженность теории рационального выбора. В самом деле, он также предполагает, что последний вытекает непосредственно из первого. Версия рационального выбора Однако теория, которую поддерживает Эльстер, основана на традиционная инструментальная (или homo economicus ) концепция рациональность, согласно которой «действия оцениваются и выбираются не для себя, а как более или менее эффективное средство дальше конец »(Elster 1989, 22).Он утверждает, что эта концепция рациональности подразумевается тем фактом, что теоретики принятия решений способны представлять рациональные действия любого агента, обладающего правильное упорядочение предпочтений как максимизация полезности функция. Однако подразумевает ли максимизация полезности инструментализм? зависит от версии теории ожидаемой полезности, которую подписывается на. Так называемые «мировые байесовские» версии теория принятия решений, такая как Ричард Джеффри (1983), не навязывает инструментальная концепция рациональности, поскольку они позволяют агентам иметь предпочтения перед собственными действиями.Таким образом, переход Эльстера от методологического индивидуализма инструментальной концепции рациональность основана на non sequitur .
Тем не менее, в результате аргументов Эльстера методологические индивидуализм во многих кругах стал синонимом приверженности к теории рационального выбора. Такое уравнение обычно не справляется. различить то, что было для Вебера двумя отдельными методологическими проблемами: стремление давать объяснения на теоретическом уровне действия, и конкретная модель рационального действия, которую предлагается использовать в этот уровень (т.э., идеальный тип). Есть несколько перестановки. Например, нет причин, по которым нельзя быть методологический индивидуалист, выбирая работу Хабермаса теория коммуникативного действия, а не теория рационального выбора, как модель рационального действия. На самом деле, это имело бы больший смысл, поскольку строго истолкованная теория игр никогда не предлагала общая теория рационального действия. Концепция решения Нэша, которая дает стандартное определение теоретико-игрового равновесия, специально исключены все формы общения между игроками (и решение не работает в тех случаях, когда общение вторгнуться [Heath 2001]).Таким образом, большая часть шумихи вокруг рационального выбора империализм был основан на непонимании ограничений этой модели (во многих случаях как ее защитниками, так и ее критики).
5. Другое использование термина
В философии разума фраза «методологические индивидуализм »обычно ассоциируется с утверждением Джерри Фодор об индивидуации психологических состояний (1980, 1987, 42). Важно подчеркнуть, что использование Фодором термина не имеет ничего общего с его традиционным использованием в философии социальная наука.Фодор вводит его, проводя различие между «Методологический индивидуализм» и «методологический солипсизм.» Его цель — иметь дело с вариациями на проблема двойной земли, представленная Хилари Патнэм. Вопрос в том ли человек с верой в воду на земле, где вода состоит из H 2 O, имеет то же убеждение , что и человек с верой в воду в параллельной вселенной, где вода имеет такой же внешний вид и поведение, но бывает составной из XYZ.«Экстерналист» — это тот, кто говорит, что они не то же самое, в то время как «интерналист» вроде Фодора хочет говорят, что они — грубо говоря, что содержание убеждения определяются тем, что находится в голове агента, а не тем, что в мире.
Проблема сводится к вопросу об индивидуализации ментального состояния. Как определить, что является «одинаковым», а что — нет вера? Фодор начинает с введения ограничения, которое он называет «Методологический индивидуализм», а именно «доктрина психологические состояния индивидуализированы в зависимости от их причинные силы »(1987, 42).Это подразумевает, среди прочего, вещи, которые, если одно психологическое состояние неспособно вызвать может случиться что-то иное, чем какое-либо другое психологическое состояние, тогда эти два должны быть одинаковыми. «Методологический солипсизм» — это более сильное утверждение, что «психологические состояния индивидуализированы без семантических оценок »(1987, 42). Это означает, среди прочего, что даже если одно состояние «Истина» в каком-то контексте, а другой — «ложь», эти двое могут оказаться одинаковыми.Как Фодор продолжает указывать вне, семантическая оценка психического состояния обычно будет реляционный, например верны ли определенные представления о воде будет зависеть от того, как обстоят дела с водой в мире; таким образом методологический солипсизм ведет к исключению одного типа реляционное свойство, играющее роль в индивидуализации ментального состояния. Следовательно, это «индивидуалистично» в повседневной жизни. смысл этого термина, поскольку он предполагает, что то, что происходит в голова агента выполняет большую часть или всю работу по индивидуализации психические состояния.С другой стороны, методологический индивидуализм, « не запрещает реляционную индивидуализацию ментального заявляет ; это просто говорит о том, что нет свойства психических состояний, относительный или иной, считается таксономически, если только он не влияет на причинно-следственные связи. силы »(1987, 42). Таким образом, очень неясно, почему Фодор предпочитает называют это формой «индивидуализма», поскольку эти отношения также может быть отношение к другим говорящим, а не только физическое слово.
В выборе терминов Фодором есть большая неудача.Он может предложить убедительное объяснение того, почему методологический индивидуализм считается методологическим ограничением. Он утверждает, что желание согласовать терминологические различия с объектами, имеющими разные причинные полномочия — это «тот, который просто следует из цели ученого: причинное объяснение и, следовательно, все научные систематики должен подчиняться »(1987, 42). Таким образом, это методологический заповедь. (Хотя здесь отчетливо виден резкий контраст между Использование термина Фодором и Вебером или Хайеком, для которых способность социолога предоставить что-то сверх простое причинное объяснение было тем, что навязывало методологическое приверженность теоретико-практическому уровню анализа.) Это просто Непонятно, почему Фодор предпочитает называть это индивидуализмом. С с другой стороны, методологический солипсизм, можно понять, почему он называет это солипсизм, но непонятно, что делает его методологическим. Верно, Далее Фодор заявляет, что «солипсизм (истолкованный как запрещающий относительная таксономия ментальных состояний) отличается от индивидуализма в что это никак не могло быть следствием каких-либо общих соображений о научных целях и практике. «Методологические солипсизм »- это, по сути, эмпирическая теория о разум.”(1987, 43). Таким образом, когда Фодор использует эти термины, «Методологический индивидуализм» на самом деле не индивидуалистический, и «методологический солипсизм» не действительно методологический.
6. Критика
Значительная часть критического обсуждения методологического индивидуализма в философия социальных наук касается отношения между тем, что Уоткинс назвал объяснения «беспросветными» и «На полпути» — или те, которые делают, и те, которые делают не указывать теоретический механизм действия. В общем, нет вопрос, который, учитывая какое-либо конкретное половинчатое объяснение социальной явления, всегда было бы хорошо знать, какие агенты мышления, когда они выполняют действия, которые вовлечены в производство этого явления.Вопрос в том, есть ли объяснение каким-то образом несовершенно , или ненаучно, в отсутствие этого Информация. Ответ на этот вопрос будет зависеть от того, более широкие обязательства относительно статуса и роли социальных науки. Тем не менее, стоит отметить два очень распространенных типа социально-научные исследования, которые не обеспечивают своего рода фундаментальные объяснения того, что методологический индивидуализм требований:
6.1 Статистический анализ
Рассмотрим следующий пример социально-научных дебатов: 1990-е годы резко сократилось количество насильственных преступлений в Соединенные Штаты.Многие социологи естественно начали применять на вопрос, почему это произошло, т.е. чтобы объяснить явление. Был выдвинут ряд различных гипотез. продвинутый: наем большего количества полицейских, изменения в охране общественного порядка практики, более строгие правила вынесения приговоров для правонарушителей, сократились терпимость к мелким проступкам, рост религиозности, упадок в популярности крэка, изменения в демографическом профиле населения и т. д. Поскольку снижение преступности произошло во многих юрисдикции, каждая из которых использует различные комбинации стратегий при разных обстоятельствах можно заручиться поддержкой различные гипотезы посредством чисто статистического анализа.Например, идея о том, что стратегии полицейской деятельности играют важную роль, противоречит тому факту, что Нью-Йорк и Сан-Франциско приняли очень разные подходы к охране правопорядка, но снижение уровня преступности. Так разгорелась изощренная дискуссия, с разными социологами, производящими разные наборы данных, и по-разному перебирая числа в поддержку своего соперника гипотезы.
В этой дискуссии, как и почти в любой криминологической дискуссии, отсутствует микрофундаменты.Непременно было бы неплохо узнать, что происходит через сознание людей, когда они совершают преступления, и, следовательно, насколько вероятно различные меры должны изменить их поведение, но факт в том, что мы делаем не знаю. Действительно, среди криминологи, что «общая теория» преступления возможно. Тем не менее, мы легко можем представить себе криминологи, решившие что один конкретный фактор, такой как демографический сдвиг в населения (то есть меньше молодых мужчин), составляет объяснение конец 20-го, -го, -го века, снижение уровня насильственных преступлений в США, и исключая другие гипотезы.И хотя это может быть «половинчатое» объяснение, нет вопросов что это будет подлинное открытие, которое мы могли бы узнать что-то важное от.
Кроме того, не очевидно, что «крайний предел» объяснение — то, которое удовлетворяет предписаниям методологический индивидуализм — добавлю что-нибудь очень интересны «половинчатому» объяснению, предоставленному статистический анализ. Во многих случаях это даже будет производным от Это. Предположим, что мы обнаружили с помощью статистического анализа, что уровень преступности варьировался в зависимости от строгости наказания умноженное на вероятность задержания.Тогда мы бы сделали вывод из этого , что преступники были рациональными максимизаторами полезности. На с другой стороны, если бы исследования показали, что уровень преступности полностью не затронуты изменением строгости наказаний или вероятность опасения, мы сделаем вывод, что что-то еще должно продолжаться на теоретико-практическом уровне.
Результаты на уровне теории действия также могут оказаться случайными или случайными. неинтересно, с точки зрения толкования переменные. Предположим, окажется, что снижение преступности может быть полностью объясняется демографическими изменениями.Тогда это не совсем независимо от того, что думали преступники — важно просто что определенный процент любой данной демографической группы имеет мысли, которые приводят к преступному поведению, поэтому меньше таких людей означает меньшее количество преступлений. Мотивы остаются внутри «черного» коробка »- и хотя было бы неплохо узнать, что это за мотивы есть, они не могут ничего способствовать этому конкретному объяснение. В конце концов, может оказаться, что каждое преступление уникально. как преступник. Итак, пока есть конкретное объяснение с точки зрения реальные намеренные состояния людей, ничего нельзя сказать на уровне общей «модели» рационального действия.(В В этом контексте важно помнить, что методологические индивидуализм в веберовском смысле объясняет действия с точки зрения модель агента, а не реальные мотивации реальных чел.)
6.2 Непреднамеренные объяснения
Рассмотрим еще одну социально-научную дискуссию, на этот раз полемику над данными, показывающими, что приемные родители гораздо более склонны убивать совсем маленьких детей на их попечении, чем биологические родители. Что могло бы быть связано с предоставлением исчерпывающего объяснения для этого явления тот, который удовлетворял предписаниям методологической индивидуализм? Насколько это было бы информативным? Это не займет много времени попытка представить, о чем думают люди, когда они трясут ребенка или ударил малыша.Мотивы слишком знакомы — почти каждый испытывает приступы сильного разочарования или гнева, когда иметь дело с детьми. Но это явно не объясняет явление. Возникает вопрос, почему одной группе систематически не удается осуществлять контроль над этими порывами насилия по сравнению с некоторыми другими группа. Поскольку очень немногие делают это в рамках хорошо продуманного плана, неясно, будет ли объяснение доступно на уровень намеренных состояний или даже дополнительный счет того, что происходит на этом уровне, будет хоть немного информативный.Проблема в том, что поведение порождается предубеждениями. которые функционируют почти полностью на субинтенциональном уровне (Sperber, 1997). Это говорит о том, что объяснение с точки зрения намеренного штатов не совсем «дно», но что есть более глубокие слои, которые нужно исследовать.
Нетрудно представить, как такое объяснение могло бы бегать. Люди испытывают реакцию на ювенильную (или неотенозную) характеристики молодых, что в значительной степени непроизвольно. Этот реакция очень сложна, но одной из ее основных характеристик является подавление агрессии.Люди также довольно бедны в формулируя основу этой реакции, кроме повторения ссылки на то, что ребенок «милый». Из Конечно, общая сила этой реакции варьируется от индивидуальной индивидуально, и конкретная сила варьируется в зависимости от дети. Таким образом, возможно, что биологические родители просто найдут их собственные дети «милее», чем приемные родители, и это это приводит к несколько более низкой средней склонности к совершению акты агрессии против них.Потому что они не могут сформулировать на основе этого суждения любой анализ на преднамеренном уровне будет просто не могут дать много объяснений их действия.
Более того, казалось бы, что гораздо более «глубокие» объяснения из этих поведенческих тенденций. Совершенно очевидно, что есть доступный эволюционный счет, который объясняет родительские инвестиции с точки зрения инклюзивной приспособленности (а также объясняет «новый помощник детоубийство »с точки зрения полового отбора).Из-за этого, сторонники методологического индивидуализма открыты для обвинения в том, что они продвигают половинчатые объяснения, и что эволюционная перспектива предлагает самые низкие. В более общем смысле, любая теория, которая стремится объяснить происхождение наших интенциональных состояний с точки зрения более глубокие причины, или которые претендуют на объяснение многих человеческих поведение без ссылки на интенциональные состояния (например, фрейдизм, который рассматривает многие наши убеждения как рационализацию, наши желания как сублимации), будут равнодушны к методологическим индивидуалистам. требовать отводить почетное место объяснениям, сформулированным на теоретико-действенный уровень.
6.3 Устойчивость к микрореализации
Кристиан Лист и Кай Шпикерманн (2013) недавно утверждали, что «Причинно-объяснительный холизм» требуется в социальном науки при очень точном стечении обстоятельств. Их общий Считается, что описания обычно могут быть сформулированы на разных уровни общности, и что при определенных обстоятельствах может быть больше разъясняет формулировку объяснений с использованием понятий на более высоком, а не чем на более низком уровне общности.Это особенно верно, когда свойство более высокого уровня может быть создано различными способами, но некоторые причинная связь, в которую он встроен, продолжает возникать независимо от того, конкретного экземпляра (условие, которое они называют «Микрореализация-робастность»). Это говорит о том, что методологический индивидуализм не будет уместен в тех случаях, когда «Социальные закономерности устойчивы к изменениям в их реализация на индивидуальном уровне »(629). В таких условиях Требуется «объяснительный холизм».Лист и Шпикерманн укажите три «совместно необходимых и достаточных условия »(639), при которых это будет так:
Несколько уровней описания: Система допускает нижний и верхний уровни описания, связанные с разными свойства, зависящие от уровня (например, свойства индивидуального уровня по сравнению с совокупные свойства).
Возможность многократной реализации высокоуровневых свойств: Система свойства более высокого уровня определяются его свойствами более низкого уровня, но могут быть реализованы с помощью множества различных конфигураций из них и следовательно, невозможно переопределить в терминах нижнего уровня характеристики.
Микрореализация-устойчивые причинно-следственные связи: Причинно-следственные связи в котором некоторые высокоуровневые свойства системы устойчивы к изменениям в их реализации нижнего уровня.
В качестве примера они приводят «гипотезу демократического мира» (2013, 640), что демократии не воюют друг с другом. Обычно это объяснены с точки зрения внутренних структурных особенностей демократий, которые привилегированные нормы сотрудничества и компромисса. Однако есть так много способов реализации этих функций, объяснение которых более низкий уровень описания, например, индивидуального, будет не в состоянии сформулировать соответствующую причинно-следственную связь.
6.4 Заблуждения
Основная методологическая причина социологов для принятия приверженность методологическому индивидуализму должна была предостеречь от некоторые заблуждения (те, которые были довольно распространены в 19 -е века обществознания). Возможно, самым большим из этих заблуждений было тот, который основан на широко распространенной тенденции игнорировать потенциал проблемы коллективных действий в группах, и поэтому двигаться слишком легко «Вниз» от определения группового интереса к приписывание индивидуального интереса.Один из способов избежать таких заблуждения должны были заставить социологов всегда смотреть на взаимодействия с точки зрения участника, чтобы увидеть, какие структура предпочтений определяла его или ее решения.
В то же время стоит отметить, что слишком большой упор на Теоретическая перспектива может порождать собственные заблуждения. Один из наиболее мощным ресурсом социологического исследования является именно способность объективировать и агрегировать социальное поведение, используя сбор и анализ крупномасштабных данных.Анализ социальные явления на этом уровне часто могут давать результаты, которые нелогично с точки зрения теории действия. Слишком много упор на теоретико-практическую перспективу из-за ее близости здравому смыслу, может генерировать ложные предположения о том, что должно быть происходит на агрегированном уровне. Как отмечает Артур Стинчкомб в своей классическая работа, Конструирование социальных теорий , конструирование «Демографические объяснения» социальных явлений часто требует разрыва с нашей повседневной интерпретационной точкой зрения.Слишком много сосредоточение внимания на индивидуальном отношении может привести нас к незаконным обобщения характеристик этих установок в группах (1968, 67). Например, стабильность веры в популяции только очень редко зависит от его устойчивости у индивидуумов. Там может быть значительной нестабильностью на индивидуальном уровне, но пока это действует с одинаковой силой в обе стороны, его распространенность среди населения будет без изменений (68). Если десять процентов населения потеряют веру в Боге каждый год, но десять процентов имеют опыт обращения, тогда общий уровень религиозности не изменится.Это может кажутся очевидными, но, как замечает Стинчкомб, «интуитивно трудно для многих »(67), а невнимание к этому — общий источник ошибочного социологического мышления.
Также стоит отметить, что теоретико-практический уровень анализа фокусируясь на интенциональных состояниях агента, может генерировать значительный вред при случайном сочетании с эволюционным рассуждения. Наиболее распространенное заблуждение возникает, когда теоретики рассматривают «Личный интерес» человека, определенный в отношении его или ее предпочтения, как замена «пригодности» конкретное поведение (или фенотип), будь то биологическое или культурный уровень, то предполагает, что существует некий механизм отбора в место, опять же на биологическом или культурном уровне, которое будет отсеять формы поведения, которые не способствуют продвижению личности своекорыстие.Проблема в том, что ни биологический, ни культурный эволюция функционирует таким образом. Это элементарное следствие Теория «эгоистичного гена», согласно которой биологическая эволюция не продвигать интересы агента (наиболее ярким примером является инклюзивный фитнес). По тем же причинам культурная эволюция приносит пользу «мем», а не интересы агента (Станович 2004). Таким образом, эволюционная перспектива требует много больший разрыв с рациональной перспективой, чем многие социальные теоретики ценят.Таким образом, методологический индивидуализм иногда может препятствуют радикальной объективизации социальных явлений, которые требует использования определенных социотеоретических моделей или инструментов.
Индивидуализм: примеры и определение | Философские термины
I. Определение
Вы восхищаетесь людьми, которых не волнуют социальные ожидания? Людей, которые маршируют в такт своему барабанщику? Как вы думаете, имеют ли люди право делать все, что они хотят, не причиняя вреда другим, включая действия, которые могут нарушать традиционные ценности? Или вы думаете, что такие люди незрелые, эгоистичные, грешные или антиобщественные?
Индивидуализм — это вера в индивидуальность, разнообразие и свободу выше авторитета и соответствия.Индивидуализм подчеркивает обособленность, независимость и уникальность разных людей. Это часть многих политических и философских движений, таких как либерализм, анархизм, эгоизм, либертарианство, экзистенциализм и гуманизм. Естественно, он поддерживает полное равноправие для всех национальностей, полов и сексуальных ориентаций.
Некоторые индивидуалисты поддерживают эгоизм, социальное неравенство или разрушение социальных и политических институтов. Индивидуализм — это идея, которую можно применять по-разному.Возможно, самая большая разница между философиями индивидуализма заключается в том, продвигают ли они заботу только о себе или обо всех людях.
II. История индивидуализма
Хотя индивидуализм возникал здесь и там на протяжении всей истории, он впервые стал известен как философия в начале 19 -го века, после американской революции и Декларации независимости , заявления крайнего индивидуализма:
«Мы считаем самоочевидными истины о том, что все люди созданы равными, что они наделены своим Создателем определенными неотъемлемыми правами, среди которых есть Жизнь, Свобода и стремление к счастью.- Что для обеспечения этих прав среди людей создаются правительства, получающие свои справедливые полномочия с согласия управляемых ».
Это либерализм, политическая философия, почти синоним индивидуализма.
В 1793 году философ Уильям Годвин писал в поддержку анархистского индивидуализма, предвосхищая революционные анархические движения, которые разовьются позже в 19, -м, -м веке, — которые были переплетены с коммунистическими движениями и русской революцией.Коммунизм был сначала продвинут людьми, которые считали, что он может в конечном итоге привести к функциональному анархистскому обществу. А анархизм — это, прежде всего, форма индивидуализма. Парадоксально, что эти движения привели к возникновению тоталитарных государств!
Голоса индивидуализма, изменившиеся в течение 1900-х годов. Генри Дэвид Торо писал о своем уходе от общества, чтобы жить в созерцании и в гармонии с природой. Макс Штирнер заявил, что никакой государственной власти над людьми нет.А Уолт Уитмен стал примером индивидуализма в искусстве и индивидуальности, предвосхитив радикально индивидуалистических художников конца 20-го, -го, -го века, таких как Аллен Гинзберг, Сальвадор Дали и Sex Pistols.
В двадцатом веке индивидуализм перерос во множество различных движений в политике, философии, искусстве и общественной активности. Парадоксальным образом индивидуализм стал поддерживать как левые движения, такие как экзистенциализм и хиппи, так и правые идеологии, такие как объективизм Айн Рэнд.Основное различие, по-видимому, состоит в том, интерпретируется ли индивидуализм как «каждый за себя», как в объективизме, или как «один за всех и все за одного», как в либерализме.
III. Споры об индивидуализме
Обязательно ли индивидуализм подразумевает эгоизм ?
Так думали Айн Рэнд, Макс Штирнер и многие другие. Слово «индивидуум» подразумевает, что каждый человек является независимой единицей. И по этой причине Рэнд и Штирнер отстаивали этический эгоизм, идею о том, что то, что правильно с моральной точки зрения, лучше всего для вас самих.Рэнд утверждал, что альтруизм — зло.
Все же другие индивидуалисты — Торо, Гинзберг, Уолт Уитмен — в равной степени настаивая на индивидуальной свободе, не выступали за эгоизм и, казалось, ценили гармонию с другими живыми существами. Их защита меньшинств и забота о благе своих обществ воплощают индивидуализм, в котором индивидуальность каждого человека одинаково важна, что противоречит эгоизму.
Индивидуализм должен подразумевать некоторую степень эгоизма, поскольку индивидуалист должен следовать своим собственным идеям и чувствам по поводу многих вещей, а не подчиняться, но если вы верите в равную важность всех людей, вы также должны уважать индивидуальность других.Рэнд сказал бы, что это можно сделать как эгоист, однако очевидно, что отстаивание прав других может потребовать самопожертвования, поэтому тотальный эгоизм иногда должен вступать в противоречие с неэгоистичным индивидуализмом.
IV. Цитаты об индивидуализме
Цитата № 1:
«Искусство — это индивидуализм, а индивидуализм — тревожная и разрушающая сила. В этом его огромная ценность. Ибо он стремится нарушить однообразие шрифтов, рабство обычаев, тиранию привычек и низведение человека до уровня машины.»- Оскар Уайльд, Душа человека при социализме
Здесь Оскар Уайльд, писатель, известный своим личным индивидуализмом, указывает, что индивидуализм противостоит рутине, предсказуемости, привычке, традициям и обычаям, что делает его подрывной силой. тот, который может (и должен?) нарушить социальную гармонию и разрушить старые системы и обычаи. Слишком уж Уайльд (и многие художники), это духовная проблема — противостояние механизации человеческой жизни.
Цитата № 2:
«Кто бы ни был мужчиной, тот должен быть нонконформистом.Тому, кто собирает бессмертные пальмы, не должно препятствовать имя доброты, но он должен исследовать ее, если это доброта. Наконец-то нет ничего святого, кроме непорочности вашего собственного ума. Отпустите вас перед собой, и вы получите мировое избирательное право ». — Ральф Уолдо Эмерсон, Самостоятельность и другие эссе
Здесь Эмерсон говорит, что для того, чтобы быть «мужчиной» (я думаю, он имеет в виду истинную личность), нужно отказаться от всех предубеждений и предполагаемых ценностей и исследовать , наконец-то живя только своими истинными ценностями.И он предполагает, что если вы сможете это сделать, мир одобрит.
V. Типы индивидуализма
Политический индивидуализм относится в основном к либерализму, анархизму и эгоизму. Фактически, это в основном либерализм, поскольку анархистских наций еще нет, а этический эгоизм довольно непопулярен, с его оппозицией альтруизму.
Философский индивидуализм включает этический эгоизм, эгоистический анархизм и объективизм, которые все подчеркивают индивидуальную обособленность в действии и этике.Он также включает экзистенциализм, гуманизм и субъективизм, которые подчеркивают примат индивидуального опыта и жизни, а также свободу в выборе искусства и образа жизни.
Методологический индивидуализм — это политика анализа экономических проблем с точки зрения индивидуального выбора, важнейшая идея современной экономической науки.
Богемский индивидуализм — это термин, который мы будем использовать здесь для описания социальных движений, начиная с 1950-х годов, которые характеризовались радикальным разнообразием и свободой во всех аспектах жизни, таких как американское движение за гражданские права, поэтов-битников, хиппи и т. Д. сексуальная революция, панк-движение и многие другие.
VI. Индивидуализм против коллективизма
Возможно, вы видели, как тысячи китайских барабанщиков выступали в идеальном единстве перед Олимпийскими играми в Пекине? Коллективизм означает приоритет групп над отдельными людьми и всегда доминировал в Восточной Азии; материковый Китай и Северная Корея, вероятно, являются сегодня наиболее коллективистскими обществами. Коллективизм не обязательно связан с коммунизмом или тоталитаризмом, однако их ассоциация естественна, поскольку коллективисты не считают демократию или индивидуальные свободы важными по сравнению с успехом государства.
Вы можете быть удивлены, если я скажу вам, что большинство китайцев не хотят демократии (да, я жил там много лет и говорю по-китайски). Их больше беспокоит экономический успех материкового Китая в целом, который был достигнут их тоталитарным правительством быстрее, чем это могло бы быть при демократии. Это правда, что многие формы индивидуальности в Китае подавляются социально или юридически, такие как свобода искусства, слова и информации, сексуальная свобода, а также из-за социального давления свобода личного стиля и средств к существованию.Это строго конформистское общество.
Но современный Китай вытащил миллиарды из нищеты и невежества и за короткое время стал крупной мировой державой. Китайцы склонны считать индивидуализм привлекательным, но незрелым. Большинство из них хотят быть индивидуалистическими по стилю, но не политически, поскольку они ценят свою принадлежность к китайской цивилизации выше индивидуальности.
Другие азиатские общества, такие как Япония и Индия, хотя и более коллективистские, чем Запад, становятся все более индивидуалистичными в своем воздействии на западную культуру, предполагая, что индивидуализм — это волна будущего на некоторое время.С другой стороны, весьма успешные социалистические демократии северной Европы, такие как Швеция, воплощают в себе больше коллективистских ценностей, чем Америка, с системами, направленными на сокращение разницы в доходах между гражданами, и общим социальным этосом, не выделяющимся и не эгоистичным . Общества могут попадать во многие места в спектре между тотальным индивидуализмом и тотальным коллективизмом.
VII. Индивидуализм в поп-культуре
Пример № 1: Кавер Сида Вишеса на «My Way»
В этой песне, популяризированной Фрэнком Синатрой, мелодия популярной французской песни сочетается с новыми стихами, написанными Полом Анка.Эта версия, написанная басистом Sex Pistols и печально известным нарушителем закона Сидом Вишесом, делает ее практически самым индивидуалистическим гимном всех времен; их тексты говорят сами за себя.
Пример № 2: Они могут быть гигантами, «свистящими в темноте»
Это более философское и загадочное утверждение исходит от одной из самых индивидуалистичных поп-групп последних тридцати лет — They Might Be Giants. Фраза «свист в темноте» относится к вызову мужества и оптимизма в сложной ситуации.В песне рассказывается о том, как другие люди всегда вкладывают идеи в наши головы, хотя они и не собираются вести себя недоброжелательно. Певец принимает совет «просто быть тем, кто вы есть», но предпочел бы «свистеть в темноте», что, кажется, подразумевает активное сопротивление тьме (опасных идей?), Возможно, посредством создания музыки? а не просто быть собой. TMBG — такие индивидуалистические авторы песен, что их часто трудно интерпретировать!
Индивидуализм | Encyclopedia.com
Индивидуализм — это доктрина, касающаяся как состава человеческого общества, так и конституции социокультурных субъектов.Этот термин был изобретен в 1820-х годах, по-видимому, во Франции (Swart 1962). Его первое появление на английском языке датируется переводом 1835 года исследования Алексиса де Токвиля о Соединенных Штатах (Tocqueville [1850] 1969, p. 506). Основное понятие, выраженное недавно придуманным словом, что индивид является суверенным по отношению к обществу, было сильно противоречивым, поскольку оно стояло на могиле одного установленного порядка, провозглашая подъем другого. По мнению одного из первых французских критиков, индивидуализм «разрушает саму идею послушания и долга, тем самым разрушая и власть, и закон,« не оставляя ничего », кроме ужасающего смешения интересов, страстей и различных мнений» (цит. По: Lukes 1973, p. .6).
Индивидуализм следует отличать от исторически определенных конституций индивидуальности человека. Слово «индивидуум», используемое для отделения конкретного человека от коллективов («семья», «государство»), было в обращении на протяжении веков до Токвиля (хотя в основном как прилагательное), и индивидуализации практиковались под одним описанием. или другое задолго до этого, по крайней мере, о чем свидетельствуют старейшие сохранившиеся тексты истории человечества. Однако досовременные конституции индивидуальности не стали средоточием особой доктрины индивидуализма.Это развитие явилось ответом на глубокие изменения социальной структуры и сознания, которые медленно накапливались в течение семнадцатого и восемнадцатого веков. При переходе от средневекового мира к современному возникли новые смысловые прозрачности, в числе которых наиболее важное из них — особая концепция «индивидуума». Огромная сила этой концепции отражается в том факте, что люди современного общества обычно не сомневаются в том, что такое «индивидуум» .Ссылка была самоочевидной, потому что упомянутый объект, человек , был самоочевидным, предопределенным, естественным.
Но нужно помнить, что «индивид» — это конструкция. Как и все конструкции, он исторически изменчив. Значение индивидуализма «индивидуум» сформировалось в конкретных исторических обстоятельствах, которые, как на практике, так и в идеологии, все более ценили ценности рационального расчета, мастерства и экспериментов; сознательные усилия по улучшению условий жизни человека; и универсализм, основанный на убеждении, что «человеческая природа» в основном одна и та же везде во все времена и что рациональность уникальна по численности.Эти обязательства проявились в доктрине индивидуализма (как, впрочем, и в формировании современных социальных наук). Ко времени Токвиля и нового слова индивидуализм стал неотъемлемой частью практического сознания современного общества. Человеческие существа объективировались как экземпляры «индивидуума», то есть как экземпляры особого вида индивидуальности.
Силы, созданные в этот период формирования, вызвали огромные изменения в структуре общества, многие из которых продолжают сказываться.Конечно, с изменением исторических обстоятельств изменились и «индивидуальность» индивидуализма, и конституция индивидуальности. Тем не менее, определенная прозрачность смысла остается и сегодня в нашем практическом сознании «индивидуума», и это все еще поддерживается доктриной индивидуализма. Таким образом, когда социолог говорит, что «естественной единицей наблюдения является индивид» (Coleman 1990, p. 1), он может предположить, не опасаясь неудачи, что большинство его читателей точно знают, что он имеет в виду.
Остальная часть статьи предлагает краткие отчеты о (1) развитии индивидуализма в течение семнадцатого, восемнадцатого и девятнадцатого веков, (2) недавних сдвигах акцентов в индивидуалистической концепции «индивидуума» и (3) некоторых современных вопросы и проблемы. Более расширенные методы лечения можно найти у Macpherson (1962), Lukes (1973), Abercrombie et al. (1986), Heller et al. (1986) и Hazelrigg (1991), среди других.
САМОПредставляющий индивид
Хотя элементы индивидуализма можно увидеть в выражениях практических вопросов уже в эпоху Возрождения XII века (Macfarlane 1978; Ullmann 1966), первое более или менее систематическое утверждение доктрины было сделано во время 1600-е годы.Такие ученые, как Рене Декарт, Томас Гоббс и Джон Локк, считали, что для понимания целого (например, общества) нужно сначала понять, из каких частей оно состоит. В случае общества эти части, строительные блоки общества, были экземплярами «индивидуума». Несмотря на разногласия по различным конкретным вопросам — например, отличается ли человеческое действие от естественного мира причинной необходимости (Декарт) или продуктом этой причинной необходимости (Гоббс), — эти ученые семнадцатого века проявили удивительную уверенность в своем понимании » индивид «как досоциальный атом.Их личность была очень абстрактным существом, сидящим на корточках за пределами мира.
В досовременном порядке европейского общества социальные отношения были органическими, корпоративными и, в основном, аскриптивными. Суверенитет был сложным отношением долга, ответственности и милосердия, сосредоточенным на определенном месте в иерархическом порядке органического сообщества. Безусловно, члены общины были индивидуализированы, но различие составляло прежде всего аскриптивное положение в иерархическом порядке.Например, из сохранившихся документов двенадцатого века ясно, что один отдельный рыцарь отличался от любого другого способами, которые мы бы описали как «личность». Однако, за редкими исключениями, дискриминация носила локальный характер. В остальном рыцарей различались в основном по родословной, верности и рыцарским качествам. Люди могли подниматься (и опускаться) по ступеням ранга, но вертикальное движение было первым в семье или группе домашнего хозяйства. Рыцарь, стремившийся к еще более высокому положению, сначала должен был остаться в другой, более могущественной семье.Точно так же, хотя нет никаких оснований сомневаться в том, что жители деревни или города XII века могли надежно различать друг друга по физиономическим особенностям, изображение людей на картинах сосредоточено на вопросах костюма, положения и осанки, чтобы обозначить социальные различия между людьми. практически безжизненные манекены. Даже в революционных произведениях, приписываемых Джотто (1267–1337), чьи тонкие жесты и взгляды начали достаточно индивидуализировать изображения, чтобы их можно было назвать портретами в современном смысле, такие черты лица, как бородавки, жировики, родинки, морщины, линии, шрамы , и обвисшая кожа все еще не имели отношения к визуализированной идентичности или характеру человека и, следовательно, отсутствовали.Но к концу 1400-х годов мы видим, в первую очередь, в «Портрете старика и мальчика » Доменико Гирландайо (около 1490 г.), изображающих, которые с точки зрения современной восприимчивости считаются реалистично индивидуализированными лицами. Искусство портретной живописи постепенно превратилось в рекламу нового актера, в центре внимания — суверенного человека современности (Haskell 1993).
В этом новом порядке, в отличие от своего предшественника, социальные отношения были задуманы как договорные, а не органические, основанные на достигнутых, а не приписываемых чертах индивидов, освобожденных от ограничений сообщества.Городская жизнь снова стала центром притяжения в территориальной организации, сместив дворянскую систему. То, что впоследствии стало современным национальным государством, начало формироваться в период относительного мира, установленного несколькими Вестфальскими договорами в 1648 году. В этом контексте изобретений и экспериментов с новыми (или обновленными) организационными формами зародился новый человек. как полностью отдельная сущность идентичной целостности, «голая личность», которая может свободно соглашаться вступать в сговор с другими, равнозначно конституируемыми индивидами, каждый из которых руководствуется личными интересами.Это было, как описал Макферсон (1962), приходом «собственнического индивидуализма», и это хорошо коррелировало с развивающимися мотивами капитализма.
К концу восемнадцатого века индивидуализм получил зрелое выражение в трактатах Дэвида Юма, Адама Смита и Иммануила Канта, среди прочих. В этом зрелом заявлении, разработанном в контексте быстро меняющихся политико-экономических институтов, подчеркивается центральная роль «саморепрезентирующего человека». Главное утверждение — что «каждый человек выступает как автономный субъект своих [или ее, но прежде всего его] решений и действий» (Goldmann [1968] 1973, p.20) — служит стержнем формализованного объяснения политических и экономических прав членов общества, особенно имущих. Выражение главного притязания на моральные и юридические права личности закрепилось в недавно изобретенных традициях, в узаконивании таких принципов, как «народный суверенитет» и «неотъемлемые права», а также в таких документах общественной культуры, как Декларация прав человека. и Конституция Соединенных Штатов Америки (Hobsbawm and Ranger, 1983; Morgan, 1988).Молитвенное предписание «Да благословит Бог сквайра и его родственников и сохранит нас на должном месте» было заменено почти полностью светским « I присягнуть на верность флагу» (т. Е. Абстрактному знаку). В то время как в заявлении об автономии подчеркивается универсальность прав и особенность «Я», практический акцент на представлении о себе личности был сформулирован в политико-экономических терминах, что «требовало» разработки детальных определений и процедур для защиты «прав собственности». «задолго до того, как, скажем, такое же внимание будет уделено» правам инвалидов.»
Подобно индивиду органического сообщества, саморепрезентативный индивид является существенным присутствием, проявляющимся как воплощение единой человеческой природы, и как таковой является носителем различных черт, предрасположенностей и предрасположенностей. Однако это место Способность репрезентативного индивида к агентству и потенциал к автономии не есть ни сообщество, ни накопленные черты, предрасположенности и предрасположенности. Скорее, это глубоко внутренне по отношению к тому, что стало новой «внутренней природой» человека.За способностью разума, за всеми чувствами, эмоциями и убеждениями стоит «воля». Эмиль Дюркгейм ([1914], 1973) описал это как эгоистическую волю индивидуального полюса homo duplex , для Джорджа Герберта Мида (1934) это был «принцип действия». Но до того, как кто-либо из этих социологов, главный теоретик саморепрезентации индивида, Иммануил Кант, сформулировал основной принцип как чистое функционирование «Я» во времени. Кант ([1787] 1929, B133) утверждал, что только потому, что я могу объединить множество заданных представлений объектов в одном сознании , возможно, что я могу «представить себе идентичность сознания » во всех этих репрезентациях. .Другими словами, сама возможность познания внешнего мира зависит от временной непрерывности «Я». Индивид является абсолютным владельцем этой чистой функциональности, этого желания «Я» как основного принципа действия; индивид абсолютно ничего не должен обществу за это.
Понимая сущностное ядро человеческой индивидуальности как глубоко интериоризованную, радикально изолированную чистую функциональность, связи между индивидом и основными чертами, которые он или она несет, становятся произвольными.Человек формально свободен в выборе своих качеств, свободен быть мобильным в географическом, социальном, культурном и личном плане. Аскриптивные черты обесцениваются в пользу достигнутых, и один набор достигнутых черт всегда можно обменять на другой набор. Этот принцип свободно обмениваемых черт, стремление, направленное на прогресс к «хорошему обществу», зависел от новых средств социализации (или «интернализации норм»), чтобы обеспечить достаточную регулярность в процессах обмена.В самом деле, саморепрезентация индивида была центральным элементом особого режима поведения, нового практического значения «дисциплины» (Foucault [1975] 1977). В соответствии с доктриной индивидуализма договорные, ассоциативные формы социальных отношений, хотя и менее подходящие по своим нормативным ограничениям, чем старое органическое сообщество, были дополнены фигурой «самодельного человека», который усвоил все нормы общества. порядочность и порядочность настолько хороши, что достойны жизни в беспрецедентно свободном обществе.Когда реальность не соответствовала имиджу, для разрешения конфликта интересов и нарушения прав отдельных лиц требовались суды и судебные иски. Примечательно, что к середине 1800-х годов на английском языке не было опубликовано ни одной книги о деликтном праве; взрывной рост деликтного права и правил третьих сторон только начинался (Friedman 1985, pp. 53–54).
Потому что доктрина индивидуализма дает набор ответов на вопросы, лежащие в основе социологии (как и социальных наук в целом): что такое индивид? Как возможно общество? и так далее — практически каждая тема, впоследствии рассматриваемая социологией, так или иначе затрагивала аспекты индивидуализма.Учитывая состав индивидуализма, представляющего себя индивида, наиболее важные проблемы часто были сосредоточены на вопросах взаимосвязи между подъемом индивидуализма и развитием новых форм политико-экономической организации, которые проявляются в капитализме, бюрократии и современном государстве. В самом деле, эти отношения были в центре внимания одного из величайших противоречий, занимавших многих ранних социологов (Аберкромби и др., 1986). Вряд ли кто-то сомневался в существовании или важности отношений.Скорее, дискуссии касались таких вопросов, как причинное направление (что вызвало?), Периодизации (например, когда зародился капитализм?) И были ли идеи или материальные условия (каждая категория задумана как лишенная другой) основной движущей силой. . Во многих отношениях дебаты были продолжением той борьбы, из-за которой они велись.
Другие, более конкретные темы, затронутые социологами, также касались аспектов подъема индивидуализма. Некоторые из них уже упоминались (например,г., новый режим дисциплины). Дополнительными примерами являются развитие сектантских (в отличие от церковных) религий, за которыми следует еще более приватизированное мистико-религиозное сознание изолированного человека; изменения в домашней архитектуре, такие как больший упор на индивидуализированные уединенные пространства и функционально специализированные комнаты; изменения в манерах за столом, правилах вежливости и других «изысках вкуса»; появление «конфессионального Я» и практики ведения дневника; усиление акцента на романтической любви («аффективный индивидуализм») при выборе партнера; новые формы литературного дискурса, такие как роман и автобиография; рост профессионализма; и рост современной корпорации как организационной формы, которая, получив статус юридического лица, сравнимого с человеком из плоти и крови, поставила под сомнение понимание «воли» как основы и движущей силы договорных отношений ( см. Abercrombie et al.1986; Horwitz 1992; Перро [1987] 1990).
САМОЯЗЫВАЮЩИЙ ИНДИВИДУАЛЬ
Фигура саморепрезентирующего индивида оказалась нестабильной, даже несмотря на то, что значение репрезентации постепенно менялось. Это произошло главным образом потому, что те же факторы, которые породили эту версию индивидуализма, также привели к исчезновению прозрачного знака. Например, в то время как одежда, манеры, телосложение и подобные черты были в старом порядке надежными знаками (репрезентациями) ранга или положения человека в жизни, этот знак становился все более произвольным в своем отношении к земле.Это ослабление знака вместе с увеличением количества обменных знаков привело к новому универсализму «пустого знака». Прототипом были деньги и товарная форма: лишенный внутренней стоимости и способный представлять все, он не представляет ничего конкретного. Как описал этот процесс один недавний ученый, заимствуя статью Карла Маркса, «все твердое растворяется в воздухе» (Берман, 1983).
В то же время риторика трансисторических форм ценности (например, товара, неотъемлемых прав) допускает огромное количество индивидуальных вариаций социокультурных условий, в которых она может добиться успеха.Акцент индивидуализма на голом человеке становился все более обобщенным, что еще больше уменьшало значение групповых отношений и черт. Например, в середине 1800-х годов различие между государственными и личными делами проводилось на пороге дома и семьи. Семейная жизнь была главной «гаванью» органических отношений, заботливой домашней жизни и убежищем от испытаний работы и политики. Но вскоре это убежище стало местом борьбы за еще большую индивидуацию.Из многих факторов, способствовавших этому восстанию против традиционных ограничений семьи, одним из наиболее важных была новая культура сексуальности, которая проявляла более общую и растущую озабоченность внутренними интересами и потребностями человека.
Прецедент для этой озабоченности можно увидеть в концепции Канта о саморепрезентации индивида (из-за трансцендентального «я» каждый индивид обладает общим потенциалом к самоактуализации ), а также в романтических движениях раннего периода. 1800-е годы.Однако развитие нового «внутреннего дискурса личности» было в основном феноменом двадцатого века. Психология Зигмунда Фрейда и его учеников, безусловно, была частью этого развития; но другая часть была сформирована концепцией нового «социального гражданства» (Marshall 1964), которая подчеркивала права человека на социальное благополучие в дополнение к прежним мандатам политических и экономических прав. Постепенно возникла новая фигура личности индивидуализма, «самовыражающаяся личность».»
Индивидуализм представляющего себя индивида продвигал идею о том, что все интересы в конечном итоге являются интересами голого индивида. Новая версия индивидуализма расширяет и изменяет эту идею. В то время как самопредставляющий индивид ставит на первое место самоконтроль. и упорный труд, самовыражающийся индивид обобщает значение «свободы выбора» от политико-экономических отношений обмена до вопросов личного образа жизни и потребительских предпочтений (Inglehart 1990).Центральное утверждение гласит, что «у каждого человека есть уникальное ядро чувств и интуиции, которое должно раскрыться или проявиться, если должна быть реализована индивидуальность» (Bellah et al. 1985, p. 336), и каждый человек имеет право развивать свои или ее уникальные способности к самовыражению. Недавнее изменение в законе о разводе отчасти иллюстрирует важность этого требования. До 1960-х годов одной из немногих органических связей, все еще сохранившихся в современном обществе, были брачные узы; несколько условий были признаны достаточно серьезными, чтобы иметь юридическую силу в качестве основания для их нарушения.С изобретением развода «без вины» (относительно однозначное законодательство, которое быстро распространилось от штата к штату; Jacob 1988) супружеские отношения превратились в гражданский договор, как и любой другой, и свобода супруга выбирать развод в интересах удовлетворения невыполненных требований. потребности в самовыражении получили признание.
Еще одним проявлением этого самовыражающегося индивида является недавнее развитие специальной области, социологии эмоций (например, Barbalet 1998; Thoits 1989).Конечно, более ранние ученые (например, Георг Зиммель) признавали эмоциональные аспекты настроений, традиций, доверия и т. Д. И предполагали такие мотивы, как страх перед властью, тревога о спасении, зависть к успеху, неудовлетворенные амбиции и одноименная слава. Никто не предполагал, что люди досовременных обществ не испытывали эмоций — хотя обычно это было бы на идиоме «страстей», и ученые не соглашались, были ли они на самом деле антиисторическими, некультурными образованиями. Но до последних десятилетий двадцатого века эмоции редко рассматривались социологами как важная тема для исследования.Эмоциональные измерения жизни обычно рассматривались как подчиненные другим измерениям, так же как страсти рассматривались как опасные в необузданном виде — энергии, которые должным образом принадлежали тяге разума или «рациональной способности». (Помните, что большинство из семи смертных грехов были эмоциональными состояниями или следствиями эмоциональных состояний.) При правильном подчинении разуму эмоциональная энергия человека, представляющего себя, могла бы достичь высоко ценимых общественных результатов, даже если сама конкретная эмоция была классифицирована как порок.Таким образом, как признавал, в частности, Адам Смит, частная жадность или алчность могут стать общественным благом посредством рыночных транзакций. С другой стороны, для самовыражающегося человека эмоциональные аспекты жизни ценятся или должны цениться сами по себе, а не только из-за того, что может в них возникнуть. В то время как «погоня за счастьем» восемнадцатого века (одно из неотъемлемых прав человека, представляющего себя) было идиоматикой неограниченной формальной свободы личности преследовать корыстный интерес в торговле (социальная деятельность, по своей сути направленная вовне), ибо самовыражающийся человек стремление к счастью относится к гораздо более интроспективному, индивидуально оцениваемому эмоциональному состоянию, «быть счастливым тем, кто он есть».»
Самовыражающийся индивид индивидуализма, несомненно, остается существенной сущностью, несущей определенные черты. Разнообразие терпимых черт значительно расширяется за счет смещения акцента с самоконтроля на самовыражение посредством экспериментов с образом жизни (» человек как работа -in-progress-from-inside «как бы). Более того, это смещение акцента сопровождается оговоркой, что только те черты, которые человек может свободно выбирать, а затем отбрасывать, должны быть релевантными критериями, по которым различать и оценивать людей.Критерии, выходящие за рамки индивидуального выбора («неизменные» черты, будь то биологические или социокультурные), считаются как неуместными, так и, во все большей степени, нарушением прав человека. В сочетании с логикой социального гражданства, основанной на «правах», это условие радикально индивидуалистической свободы обратимого выбора было связано с появлением обобщенного ожидания «полной справедливости» (Friedman 1985).
Точно так же доктрина индивидуализма всегда содержала большой фиктивный компонент.Например, спустя долгое время после того, как доктрина провозгласила суверенитет голого индивида, реальная индивидуальность людей продолжала сильно отмечаться аскриптивными чертами (например, пол, раса) и социокультурным наследием от родителей. Переход к выразительному индивидуализму отражает попытки поместить деятельность «свободного человека» за пределы отдельно задуманной области отношений господства. Вместо того, чтобы пытаться изменить эти отношения, самовыражающийся индивид должен «превзойти» их, сосредоточившись на логике прав, относящихся к свободному выражению индивидуальной воли в области «личной культуры» (Marcuse [1937] 1968).
Однако художественная литература может быть продуктивной по-разному. Фикции индивидуализма часто превращались в надсмотрщиков, поскольку женщины, афроамериканцы, инвалиды и другие люди, подвергавшиеся дискриминации в первую очередь по объективным или групповым критериям, изо всех сил пытались привести реальность в соответствие с доктринальным образом.
НЕКОТОРЫЕ ТЕКУЩИЕ ВОПРОСЫ
Поскольку индивидуализм был одной из профессиональных идеологий социальных наук («методологический индивидуализм»), извечный вопрос касается правильной структуры объяснения, в частности, должно ли объяснение какого-либо социокультурного феномена в конечном итоге ссылаться на факты о людях, и если да, то что именно это означает (Coleman 1990; Hazelrigg 1991; Lukes 1973).Никто не отрицает, что коллективы состоят из индивидов. Но этот трюизм не решает ни вопроса о том, как следует понимать «композицию», ни вопроса о том, что составляет «личность». Короче говоря, методологическая проблема включает в себя ряд теоретико-концептуальных проблем, в том числе несколько, которые находятся на пересечении «индивидуального» индивидуализма и исторических вариаций в фактическом строении индивидуальности (Heller et al. 1986). Доктрина индивидуализма последовательно концептуализировала «индивидуума» как отдельного и самодостаточного агента, который действует внутри, но отдельно от сдерживающей социальной структуры.Индивид индивидуализма — это не совокупность социальных отношений, а субстанциальный атом, из которого состоят любые возможные социальные отношения. Это имеет определенные последствия для эмпирической области.
Как, например, понимать категорию «рациональное действие»? Какие минимальные критерии должны быть удовлетворены, чтобы конкретное действие можно было считать «рациональным»? Индивид, выступающий в индивидуализме, склонен к героическому — самодостаточному, самостоятельному и самоуправляемому, поднимающемуся над обстоятельствами, берущему на себя ответственность за свою судьбу и, в совокупности схожих атомов, строя лучший мир.Этот человек вскоре занял центральное место как главный источник рациональных действий. В то время как ученые конца восемнадцатого века, такие как Адам Смит, продолжали напоминать читателям, что рациональное действие могло и действительно происходило из нерациональных мотиваций (например, моральных чувств, этоса традиции, даже простой инерции привычки), почетного места в списке Источники мотивации все больше смещались в ту часть «умственных способностей», которая называлась «рациональной способностью», задуманной как инструмент воли.Акцент на рациональности как способности, «инструментальной рациональности», без сомнения, поощрялся и в то же время способствовал растущему списку изобретательских успехов в тщательно продуманных, просчитанных замыслах, планах и проектах человеческой инженерии. (Вспомните успех голландских усилий, начавшихся во все большем масштабе в 1600-х и 1700-х годах, по оттеснению моря и созданию тысяч квадратных миль новой земли — для большинства из нас это малоизвестный исторический факт, но в более ранних раз поистине дерзкое начинание.) Являются ли пределы рационального действия, таким образом, столь же строго ограниченными, как пределы рациональных размышлений, расчетов и намерений отдельного действующего лица? Большинство современных социологов согласны с ответом «нет» на этот вопрос, хотя они расходятся, иногда резко, в деталях ответа (Coleman 1990; Kuran 1995; Sica 1988).
Социальное действие может быть в высшей степени рациональным в совокупности, как по результату, так и в процессе, даже когда отдельные акторы, уделяя больше внимания нерациональным или иррациональным, чем рациональным мотивам и намерениям, ведут себя таким образом, который вряд ли соответствует доктринальному образу «героического актера». .«Люди действительно учатся на собственном опыте (если они происходят порывисто и медленно), и часть накопленного в результате этого обучения фонда составляет организационные формы, в которые встроена рациональность. Эта« рациональность как форма »- материализованный интеллект таким же образом, как и рука — калькулятор, самолет или магнитно-резонансный томограф — это материализованное решение ряда проблем, позволяющее гораздо большему количеству людей использовать, извлекать выгоду и даже управлять рациональностью, встроенной в такие устройства, чем они понимают («рациональность как способность «), необходимые для проектирования их архитектур или для превращения дизайна в рабочий продукт.Более того, в то время как только что процитированные примеры можно легко интерпретировать как непосредственные и точные продукты рациональных способностей какого-то конкретного человека (таким образом, соответствующие модели героического актера изобретателя или первооткрывателя как гения), многие другие примеры рациональных организационных форм — семья структуры, рынки, бюрократия и т. д. — это в большей или большей степени постепенное нарастание косвенности, настроений, привыкания и случайностей, чем предполагаемые последствия рационально продуманных, расчетливых, инструментальных действий отдельных людей.Доктрина индивидуализма часто игнорирует важность этих последних источников рационального действия, как будто действия, которые они мотивируют, не совсем считаются или не считаются точно так же, как действие, которое непосредственно проявляет волевую силу аргументированного индивида намерения.
Аналогичным образом, если индивид ничем не обязан обществу за «Я» как принцип действия, где следует проводить различие между детерминантами действия, которые являются социальными и теми, которые являются психологическими? Рассмотрим, например, человека, страдающего характеристиками, которые клинически (и, следовательно, в социальном плане) классифицируются как «депрессия».«Являются ли эти характеристики присущими только человеку, или они также каким-то образом описывают социальное состояние, которое является неотъемлемой частью индивидуума, охарактеризованного таким образом? Если Вилли Ломан из книги Артура Миллера« Смерть продавца »Артура Миллера , то не Описание говорит что-либо об обстоятельствах жизни, которую Ломан разделял с бесчисленным множеством других людей, или это описание лишь внутренних страданий изолированного человека? У каждого из этих рассказов о том, что находится под описанием, были свои сторонники.Популярность лечебного режима, который подчеркивает прямое паллиативное или улучшение психического состояния (как в химических приложениях, будь то прозак или псилоцибин), предполагает растущее предпочтение второго варианта.
Некоторые социологи утверждают, что самовыражающийся индивид индивидуализма является точным описанием современных реконструкций индивидуальности, и что в этой новой форме «индивида» удаляется субстанция самости, самотождественная целостность индивида.Белла и его коллеги (1985) обвиняют появление «языка радикальной индивидуальной автономии», на котором люди «не могут думать о себе или других, кроме как о произвольных центрах воли (стр. 81)». Другие утверждают, что акцент на индивидуальной автономии и разделении является выражением мужских, патриархальных ценностей в отличие от женских ценностей социальной привязанности (Gilligan 1982). Третьи видят развитие совершенно нового «порядка симулякров» (Baudrillard [1976] 1983), в котором симуляция или симулякр заменяет реальное, а затем побеждает его (например.ж., телевизионные изображения устанавливают параметры реальности). Предполагаемый результат — коллапс «социального» в безразличие «масс», которые больше не заботятся о различении «сообщений» (помимо их развлекательного эффекта), поскольку одна симуляция ничем не хуже другой.
Столь же спорные вопросы связаны с очевидным ростом у людей чувства причастности и набора законных прав, заявленных и часто выигрываемых от имени «индивидуального выбора». Фигура индивидуализма самовыражающегося индивида считается одними предвестником новой эры демократии, другие — подтверждением продолжающейся тенденции к большей атомизации (Friedman 1985).Обе оценки указывают на появление «индустрии прав», которая продвигает изобретение новых категорий юридических прав, относящихся ко всему: от гарантированной свободы экспериментировать с нетрадиционным образом жизни без риска дискриминации или возмездия до прав животных как индивидуально, так и на индивидуальной основе. на уровне вида — к возможности наделения генов «субъектоподобными способностями» и, таким образом, юридическим статусом (Glendon 1991; Norton 1987; Oyama 1985). Некоторые критики утверждают, что рост интереса к все более детализированному и «произвольному» индивидуальному выбору происходит за счет уменьшения интереса к социальным результатам.«Если люди не вернут в чувство, что общественные практики представляют собой некий естественный порядок, а не набор произвольных выборов, они не смогут надеяться избежать дилеммы неоправданной власти» (Unger 1976, p. 240). Обвинение напоминает убеждение раннего французского критика, цитируемого в первом абзаце.
ссылки
Аберкромби, Николас, Стивен Хилл и Брайан С. Тернер 1986 Суверенные личности капитализма . Лондон: Аллен и Анвин.
Барбалет, Дж.М. 1998 Эмоции, теория и социальная структура . Кембридж, Великобритания: Издательство Кембриджского университета.
Жан Бодрийяр (1976) 1983 В тени молчания Большинство . Нью-Йорк: Полутекст (е).
Белла, Роберт Н., Ричард Мэдсен, Уильям М. Салливан, Энн Свидлер и Стивен М. Типтон 1985 Привычки Сердца . Беркли: Калифорнийский университет Press.
Берман, Маршалл 1983 Все твердое растворяется в воздухе .Лондон: Verso.
Коулман, Джеймс С. 1990 Основы социальной теории . Кембридж, Массачусетс: Издательство Гарвардского университета.
Дюркгейм, Эмиль (1914) 1973 «Дуализм человеческой природы и ее социальных условий». В Роберте Беллах, изд., Эмиль Дюркгейм о морали и обществе . Чикаго: Издательство Чикагского университета.
Фуко, Мишель (1975) 1977 Дисциплина и наказание , пер. Алан Шеридан. Нью-Йорк: Пантеон.
Фридман, Лоуренс 1985 Тотальная справедливость .Нью-Йорк: Фонд Рассела Сейджа.
Кэрол Гиллиган 1982 Другим голосом . Кембридж, Массачусетс: Издательство Гарвардского университета.
Глендон, Мэри Энн 1991 Обсуждение прав . Нью-Йорк: Свободная пресса.
Гольдманн, Люсьен (1968) 1973 Философия Просвещения , пер. Генри Маас. Кембридж, Массачусетс: MIT Press.
Хаскелл, Фрэнсис 1993 История и ее изображения . Нью-Хейвен, Коннектикут: Издательство Йельского университета.
Хейзелригг, Лоуренс 1991 «Проблема микромакро-связей: переосмысление вопросов личности, социальной структуры и автономии действий.» Current Perspectives in Social Theory 11: 229–254.
Хеллер, Томас К., Мортон Сосна и Дэвид Э. Веллбери 1986 Реконструкция индивидуализма . Стэнфорд, Калифорния: Stanford University Press.
Hobsbawm, Eric и Теренс Рейнджер, ред. 1983 Изобретение традиции . Кембридж, Великобритания: Cambridge University Press.
Хорвиц, Мортон Дж. 1992 Преобразование американского права , 1870–1960 . Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета.
Инглхарт, Рональд 1990 Культурные изменения в развитом индустриальном обществе . Принстон, Нью-Джерси: Издательство Принстонского университета.
Джейкоб, Герберт 1988 Тихая революция . Чикаго: Издательство Чикагского университета.
Кант, Иммануил (1787) 1929 Критика чистого разума , 2-е изд., Пер. Норман Кемп Смит. Лондон: Макмиллан.
Куран, Тимур 1995 Частная правда, публичная ложь . Кембридж, Массачусетс: Издательство Гарвардского университета.
Стивен Льюкс 1973 Индивидуализм . Оксфорд: Бэзил Блэквелл.
Макфарлейн, Алан 1978 Истоки английского индивидуализма . Оксфорд: Бэзил Блэквелл.
Макферсон, К. Б. 1962 Политическая теория притязания Индивидуализм . Оксфорд: Издательство Оксфордского университета.
Маркузе, Герберт (1937) 1968 «Позитивный характер культуры». В Negations , пер. Джереми Дж. Шапиро. Бостон: Маяк.
Маршалл, Т.H. 1964 Класс, гражданство и социальное развитие . Нью-Йорк: Даблдей.
Мид, Джордж Герберт 1934 Разум, Я и общество , изд. Чарльз В. Моррис. Чикаго: Издательство Чикагского университета.
Морган, Эдмунд С. 1988 Изобретая людей . Нью-Йорк: Нортон.
Нортон, Брайан Г. 1987 Зачем сохранять естественное разнообразие? Принстон, Нью-Джерси: Издательство Принстонского университета.
Ояма, Сьюзан 1985 Онтогенез информации .Кембридж, Великобритания: Издательство Кембриджского университета.
Перро, Мишель, изд. (1987) 1990 История частной жизни , том 4, пер. Артур Голдхаммер. Кембридж, Массачусетс: Издательство Гарвардского университета.
Сика, Алан 1988 Вебер, Иррациональность и социальный порядок . Беркли: Калифорнийский университет Press.
Swart, Koenraad W. 1962 «Индивидуализм в середине девятнадцатого века (1826–1860)». Журнал истории идей 23: 77–90.
Тойц, Пегги А.1989 «Социология эмоций». Годовой обзор социологии 15: 317–342.
Токвиль, Алексис де (1850) 1969 Демократия в Америке , 13-е изд., Дж. П. Майер, изд., Джордж Лоуренс, пер. Нью-Йорк: Даблдей.
Ульманн, Вальтер 1966 Человек и общество в Средние века . Балтимор: Издательство Университета Джона Хопкинса.
Унгер, Роберто Мангабейра 1976 Право в современном обществе . Нью-Йорк: Свободная пресса.
Лоуренс Хейзелригг
Индивидуализм в классической китайской мысли
«Индивидуализм» используется здесь для обозначения врожденных и неотъемлемых прерогатив, способностей или ценностей, связанных с самостью и личностью, которые присутствуют в большей части китайской философской традиции.В отличие от индивидуализма в современных европейских и американских контекстах, китайские проявления «индивидуализма» не подчеркивают отделение, полную независимость и уникальность человека от внешних властных структур. Скорее, индивидуализм в китайской традиции подчеркивает силу человека в контексте его связи и единства (или гармонии) с внешними авторитетами власти. Таким образом, в то время как современные западные и китайские контексты разделяют убеждение, что люди морально ценны и могут достичь выдающегося статуса как таковые, западная традиция имеет тенденцию рассматривать человека раздробленно, разрозненно, тогда как китайская традиция фокусируется на личности как на жизненно интегрированный элемент в более крупном семейном, социальном, политическом и космическом целом.Китайские мыслители часто обращаются к вопросам, связанным с индивидуальными ценностями, расширением прав и возможностей, авторитетом, контролем, творчеством и самоопределением, но при этом они упаковывают эти важные аспекты индивидуализма способами, которые обычно отличаются от того, как индивидуализм был упакован на Западе.
Поскольку этот термин не является коренным для Китая, существует общий научный спор об уместности и уместности применения термина «индивидуализм» к китайской философии. Неспособность основной науки и дискурса найти и примириться с исконными формами индивидуализма в Китае имела важные разветвления для науки, политики и международных отношений.Например, нынешние дебаты об универсальных правах человека основаны на убеждениях, что люди могут претендовать на определенные прерогативы просто в силу своего существования как личности. Некоторые азиатские государства использовали аргумент, что азиатские традиции не индивидуалистичны, чтобы заявить, что дискурс о правах человека не только не универсален по своему охвату, но и несовместим с традиционными азиатскими ценностями.
Содержание
- Спор об «индивидуализме» в китайской философии
- Концепция автономии в китайском индивидуализме
- Я как личность
- Индивидуализм в классической конфуцианской мысли
- Моральная автономия в писаниях мохистов
- Индивидуализм в Чжуанцзы
- Индивидуализм в мышлении Ян Чжу
- Ссылки и дополнительная литература
1.Спор об «индивидуализме» в китайской философии
Исследователи ранней китайской мысли, такие как Чад Хансен, Генри Роузмонт и Майкл Нилан, часто считали термин «индивидуализм» неуместным или неподходящим для изучения китайской культуры и истории. Согласно распространенному мнению, китайская культура характеризуется скорее обязанностью и долгом, чем личными свободами. Такая характеристика китайской культуры как ориентированной на группу, а не на индивидуальную, помогает продвигать идею о том, что индивидуализм, особенно в его восприятии — как доктрина, защищающая индивидуальную автономию от обязательств, вытекающих из внешних, семейных или социальных институтов — не подходит для китайцев. контекст.
Другие ученые, такие как Ю Ин-ши, Дональд Манро, Эрика Бриндли и Ирен Блум, считают концепцию индивидуализма актуальной для китайской традиции, по крайней мере, в качестве предмета обсуждения. Бриндли идет дальше всех, утверждая, что, отрицая индивидуализм в китайской мысли, человек фактически игнорирует множество способов, с помощью которых цели и ценности личности фактически подчеркиваются в традиции. Хотя Бриндли, Ю и, возможно, Блум с готовностью признают, что термин «индивидуализм» исторически происходит из европейского и американского контекстов, они в целом соглашаются с тем, что это не должно ограничивать полезность термина как инструмента для понимания концепций, касающихся ценности и возможностей человека в Китае.Ведь даже на Западе нет единого определения термина «индивид», избежавшего научных и общественных вызовов и споров. Также «индивидуализм» не всегда строго означает уникальность, обособленность и различие, даже в западных обычаях. Более того, отсутствие термина или даже явных дебатов по поводу доктрин личности, свободы воли или автономии не означает, что китайские мыслители или даже простые китайцы не подразумевали таких вещей в своих трудах и не испытывали их в своей жизни.Таким образом, используя такие аргументы, ученые этого убеждения утверждают, что можно применить «индивидуализм» к китайской философии, чтобы получить богатые сравнительные идеи и пролить свет на важность интегрированного индивида в китайской философии.
Следующий анализ текстов и их встроенных допущений и утверждений служит для выявления возможных китайских форм индивидуализма, которые, по-видимому, значительно отличаются от западных форм притяжательного индивидуализма , которые возникли именно в английских контекстах семнадцатого века.Последние формы сосредоточены на собственнических притязаниях человека на уникальность и автономию от окружения. Китайские формы индивидуализма, напротив, склонны подчеркивать достижение или реализацию человеком некоторого потенциала изнутри и с точки зрения более широкого семейного, социального и космического целого. Эта концепция индивидуализма не поддерживает сильное чувство автономии и независимости, определяемое через отделение или свободу от других, а скорее раскрывает автономию и независимость человека как полностью достигнутого и интегрированного существа в более широкой сети отношений и властей.
2. Концепция автономии в китайском индивидуализме
Понятие автономии, возможно, служит отличительным аспектом любой формы индивидуализма. Автономный агент во многих западных дискурсивных моделях свободен от определенных внешних влияний. Это можно увидеть в том факте, что различные индивидуализма сегодня обычно переделывают человека как человека, обладающего потенциалом быть отдельным и отличным от своего окружения и общепринятых норм. Они наделяют людей полномочиями, подчеркивая их способность принимать решения и выносить суждения независимо от мирских влияний и норм в мире.
Напротив, ранние китайские формы индивидуализма обычно не сосредотачиваются на радикальной автономии личности; а скорее на целостной интеграции человека с силами и властями в его или ее окружении (семье, обществе и космосе). Для ранних китайских мыслителей не существует такой вещи, как неограниченная автономия или свобода воли. Скорее, ранние китайские мыслители постулировали существование относительной и относительной автономии; или тип автономии, который дает людям свободу принимать решения за себя и определять ход своей жизни в максимально возможной степени — и все это в рамках сложной системы взаимоотношений.Этот тип автономии наделяет человека полномочиями реализовать свой потенциал как интегрированного человека . Цель такого человека — добиться авторитета как личности, в то же время должным образом согласовывая влияния, команды и обязанности, которые проистекают из его или ее более широкого окружения. Следовательно, решающее движение вперед и назад между собой и различными авторитетами, окружающими его, вплетено в саму ткань того, что значит быть полностью развитым, авторитетным, наделенным полномочиями и интегрированным человеком.
3. Я как личность
Свободное от радикальной дихотомии между истиной / сущностью и видимостью, которая характерна для Декарта, раннее китайское «я» не обременено грубым разделением между разумом и телом или между истинной природой и опытом. Скорее, раннее китайское «я» больше похоже на организм, который как состоит, так и возникает из сложных процессов, происходящих внутри и вне него, когда он взаимодействует с окружающей средой и относится к ней.Таким образом, концепции «я» и личности гораздо более интегрированы, чем в некоторых крайних дуалистических западных традициях, поскольку находятся в постоянном и постоянно меняющемся отношении к тому, что происходит как внутри, так и снаружи.
В той степени, в которой «я» задумано как физическое, воплощенное и динамическое, раннекитайское «я» обязательно влечет за собой иное определение «индивидуума». Хотя в классическом китайском нет четкого термина, который можно было бы последовательно переводить как «индивидуум», последний термин облегчает обсуждение тех аспектов личности, которые подчеркивают ее особенность в целом.Мы используем термин «индивидуум» здесь для обозначения ранних китайских представлений о себе, которые касаются не столько субъективного, психологического ощущения «я», сколько качеств человека, которые маркируют его или ее как единую особую сущность, способную к проявление свободы воли в паутине отношений. Другими словами, мы говорим об индивидууме не как об атомистической, изолированной и недифференцированной части целого, а как об отдельном организме, который должен выполнять определенные функции и выполнять уникальный набор отношений в мирах, частью которых он является. часть.Таким образом, индивид является уникальным участником большего целого — неотъемлемой частью как процессов, определяющих целое, так и происходящих из него изменений и трансформаций.
4. Индивидуализм в классической конфуцианской мысли
Одно из постоянных понятий китайской философии, независимо от школы мысли, — это самосовершенствование. Ru , или конфуцианское происхождение, уделяет особое внимание нравственному развитию личности с использованием различных инструментов и ресурсов, как внутренних, так и внешних.В Аналектах Конфуция, junzi (джентльмен или дворянин) представляет собой самый важный идеал для человека, и любой человек, который стремится к такому идеалу, должен делать это с помощью сложного морального режима интенсивного участия в жизни человека. обряды Чжоу (династический дом) и его музыка; нравственное воспитание через морально достигнутого правителя, учителя или морального образца; и обучение — включая тексты и истории, а также личные ресурсы, такие как сила воли, моральное желание, внутреннее размышление и мысль, а также активная оценка того, как собственные мысли и действия сравниваются с мыслями и действиями других.
В то время как кто-то может не пожелать называть что-либо, упомянутое в «Аналектах », «индивидуализмом», ясно, что человек обладает наиболее ценным ключом, поскольку он или она служит локусом для самосовершенствования и, следовательно, для трансформации. себя, чтобы внести свой вклад в нравственное общество и космос. Индивид образует основу, на которой должны строиться авторитетный моральный смысл и поведение. Поскольку личность рассматривается как фундаментальное место нравственного преобразования, это абсолютно важный элемент конфуцианской мысли.Таким образом, хотя философия, представленная в Аналектах , не продвигает индивидуализм как моральную позицию, которая подчеркивает индивидуальную автономию и свободу от социальных ограничений, она действительно устанавливает личность как неотъемлемую ценность в процессе морального совершенствования с потенциалом авторитета. и полностью интегрирован как фигура junzi в сеть сложных социальных, политических и космических сил. Таким образом, тип интегрированного индивидуализма, кажется, существует даже в самых основных ранних китайских конфуцианских текстах.
Человек, чьи труды дают нам одно из самых ранних и, возможно, наиболее ясных представлений о раннем китайском индивидуализме, — это Мэн-цзы. В литературе до Мэнция человек представляет собой фундамент для нравственного совершенствования, но источник моральной мотивации и понимания может происходить в значительной степени от внешних авторитетов. Менций изменяет это, обращаясь к врожденным моральным силам человека через концепцию xing (человеческая природа). Натурализируя моральную мотивацию через концепцию xing , Мэнсиус раскрывает то, что кажется новой ориентацией на человеческую деятельность: ту, которая рассматривает индивидуальное тело как универсальный источник космического авторитета и естественных закономерностей.
Менсий определяет источники моральной свободы воли и авторитета, очерчивая внутреннюю и внешнюю дихотомию и подчеркивая внутренние ресурсы личности в нравственном совершенствовании. Лучше всего это демонстрируется в Mencius 2A2 и во всей шестой главе, части A текста, где Мэнсиус обсуждает с оппонентом, Гаози, идею о том, что xing является источником моральной свободы воли и понимания. В отличие от Мэн-цзы, Гаози выступает за полное подчинение человеческого сердца-разума, места контролирующего механизма человека, воли ( чжи) , янь , или того, что в этом отрывке можно перевести как «высказывания» или «Учение.Таким образом, Гаози заявляет об абсолютной необходимости обучения и дисциплины через традиции, культуру и другие внешние факторы. Мэнций возражает, показывая, что необходимо успокоить свой ум, чтобы он позволил его естественным, врожденным моральным склонностям направлять тело в правильном мышлении и поведении.
В другом известном споре Гаози сравнивает нравственную утонченность с чашками и блюдцами, которые были созданы человеком путем тяжелого труда и внешнего запечатления. Его взгляд на моральное совершенствование категорически отрицает, что внутренний xing человека может иметь какие-либо моральные качества или потенциал.Менсий отвечает аналогией равной силы, описывая человека xing в терминах воды. Он утверждает, что так же, как поток воды естественным образом стремится вниз, так и человек xing естественным образом движется к добру. Осуждая взгляды Гаози на внешние истоки морали, Мэнсиус настаивает на том, что аморальное поведение возникает только тогда, когда внутренние ресурсы, такие как xing , блокируются, нарушаются и уничтожаются внешними силами.
УтвержденияMencius объединяют моральную мотивацию xing с жизненными процессами, связанными с человеческим телом.Воспользовавшись лингвистической связью между терминами «жизнь» и «человеческая природа» в классическом китайском языке, Мэнсиус утверждает, что моральная сила xing является неотъемлемой частью основных жизненных процессов. Для него моральная мотивация, уходящая корнями в человеческую природу, неразрывно связана с агентством, которое наполняет саму нашу жизнь здоровьем и жизненной силой.
В целом, для Мэн-цзы, каждый человек является его или ее собственным моральным агентом в силу правильного и здорового образа жизни как человеческое существо. Помещая семена морали в xing , дарованное Небом агентство для человеческой жизни, Мэнций демонстрирует, что нравственное совершенствование равносильно достижению надлежащих мер для основных жизненно важных функций человека.Таким образом, Менсий не только натурализует моральную свободу действий, делая ее универсально присущей каждому человеку, он также предлагает радикальное, физиологическое утверждение о типе индивидуализма, который связывает надлежащее моральное совершенствование с естественным ростом присущих человеку xing и жизненных сил.
Мэн-цзы важен в истории китайского индивидуализма, потому что он основывает высший моральный авторитет на внутренних, врожденных ресурсах человека. Форму индивидуализма Менция характеризует как более сильную форму индивидуализма, чем описанная в Analects , так это то, что он делает упор на человеческое тело, а не просто как на средство авторитета или первичный локус для достижения идеализированного авторитета (как это проиллюстрировано через самоуправление). культивирование), но и как индивидуализированный источник его.
Примечательно, что все конфуцианцы, пришедшие после Мэн-цзы, похоже, понимают xing с точки зрения могущественных, врожденных склонностей людей, но некоторые, как Сюньцзы, яростно боролись, чтобы отрицать, что такие тенденции были морально положительными. Хотя Сюньцзы нельзя назвать индивидуалистом в том смысле, в каком это может быть Мэн-цзы, его мысль, тем не менее, поддерживает сильное понятие индивидуальной моральной автономии, представленное в аналектах .
5. Нравственная автономия в писаниях мохистов
Ранние моисты были известны своими взглядами на социальное соответствие и повиновение политическим властям, таким как правители и Сын Неба, подчинявшийся власти Небес.В таких конформистских идеалах в западном смысле мало что является индивидуалистическим . Однако, если учесть, что в основе их взглядов на моральную меритократию и волю Небес лежит фундаментальная вера в рациональную способность человека знать и изучать мораль, то индивид-мохист начинает казаться гораздо более индивидуалистичным, чем он мог бы поначалу. взглянуть мельком. В самом деле, в ранних моистских писаниях от людей требовалось знать и выбирать морально правильный путь — тот, который соответствует Воле Небес — по собственному желанию.Таким образом, они морально автономны в двух смыслах: (1) они обладают способностью использовать свой рациональный разум для расшифровки, познания или (в случае обычных простолюдинов и людей), по крайней мере, молчаливо знакомых с Волей Небес, и ( 2) У них есть способность выбирать, чтобы соответствовать тому, что правильно.
Ранние моисты, которые открыто выступают против современных верований в мин (судьба, предназначение, происходящее с Небес), наделяют человека высокой степенью контроля над результатами в этом мире.Таким образом, хотя ранние моисты не придавали особого значения и не придавали особого значения индивиду или его силам и прерогативам, не говоря уже о его самосовершенствовании, они неявно наделяли индивидуума большой свободой действий и контролем над его жизнью и типом нравственного пути он хочет следовать. Благодаря их трудам можно понять, каким образом такие концепции, как соответствие, могут на самом деле идти рука об руку с убеждениями в автономии и свободе воли.
6. Индивидуализм в Чжуанцзы
Внутренние главы книги Чжуанцзы , которые, как обычно считают ученые, были написаны Чжуанцзы (или Чжуан Чжоу), продвигают видение единства человека с Дао Небес.Является ли такое видение индивидуалистическим или нет, остается предметом споров. С одной стороны, Чжуанцзы прямо не приписывает процессы Дао силам, присущим телу или духу человека. Следовательно, его сочинения технически не подпадают под определение «индивидуализма», использованное выше при обсуждении Мэнция, который определяет первичный источник идеализированной деятельности внутри мирского человека. Фактически, Чжуанцзы открыто защищает идею потери самоидентификации и чувства себя или тела, чтобы полностью принять силу Дао .Похоже, что это идет вразрез с любым индивидуализмом, который может ценить личность.
Однако, с другой стороны, Чжуанцзы надеется, что каждый человек сможет достичь трансцендентного я вместе со свободой, связанной с трансцендентным человеком. Такая свобода — духовная по своей природе — это не свобода от более высокого источника силы, а свобода с по от него. Поскольку Чжуанцзы продвигает идеал духовной свободы через индивидуальное самосовершенствование, его мысль характерна для холистического индивидуализма, описанного ранее.Людей ценят не сами по себе, а через их связь с высшим авторитетом или властью. Реализованные индивиды — цель в мысли Чжуанцзянь — не уникальные, автономные индивиды, стоящие отдельно от внешних сил, но уникальные проявления работы общего Дао .
Так называемый «примитивист», чьи записи во внешних главах Zhuangzi , кажется, представляют связный голос в этом тексте, представляет форму индивидуализма, более близкую к описанной в Mencius выше.В то время как Внутренние главы излагают философию, цели которой кажутся совместимыми с индивидуалистическими целями, эта ветвь Внешних глав идет дальше, чтобы с самого начала локализовать ценность внутри человека, даже в его обыденном состоянии.
Примитивистские сочинения однозначно подчеркивают идеализированные силы xing в каждом человеке, которые в конечном итоге связывают человека с Dao . Используя резкий язык внутреннего и внешнего, примитивист осуждает мораль как внешнее покрытие и ненужное загрязнение внутреннего xing .Рекомендуя каждому человеку приложить всю свою веру к естественным, врожденным силам xing , примитивист предлагает избавиться от импульсов, ответственных за создание культурных и социальных норм. Это приводит к возвращению человека не только к его или ее самой основной природе — той, которая не случайно соответствует Дао природного мира — но и к возвращению общества к эпохе примитивных политических структур и человеческих взаимодействия тоже.
Отвергая необходимость социальных структур, институтов, знаний, технологий и культурных практик в пользу космического или естественного закона и силы, доступной через индивидуум, человеческое тело, сторонники примитивистской идеологии разделяют базовую индивидуалистическую точку зрения: Посмотреть. Такой взгляд предполагает, что высшая ценность заключается в том, чем люди обладают от природы и в том, что естественно доступно каждому человеку. Для примитивиста эта внутренняя, врожденная и универсальная человеческая сила для идеального взаимодействия в мире происходит от xing , который в конечном итоге является частью естественных циклов космического Дао .
Примитивист освещает полярности между тем, что является внешним и чуждым или внутренним и неотчуждаемым для данного объекта. Таким образом, он противопоставляет знания и культуру общества индивидуальной жизнеспособности и врожденным силам. Это натурализует то, что является идеальным, помещая его в космические возможности и авторитет индивидуального xing . В Laozi , тексте, на котором в значительной степени полагаются примитивисты, линейка служит основным каналом, обеспечивающим индивидуальный доступ каждого к Dao .В отличие от Laozi , примитивист представляет утопическое видение, которое говорит о прямом, телесном отношении каждого человека к космической силе. Это различие указывает на примечательное различие между теократическими концепциями космической власти и власти, выраженными в Laozi ; и биократические, индивидуализированные, выраженные в примитивистском идеале.
7. Индивидуализм в мышлении Ян Чжу
Нельзя говорить об индивидуалистических движениях в раннем Китае, по крайней мере не соглашаясь с тем, что мы знаем о Ян Чжу или Янцзы (ок.4 -й век до н. Э.) И его наследие. Мэнсиус утверждал, что Ян Чжу продвигал учение об эгоизме, которое первый считал равносильным анархизму. Хотя нет убедительных доказательств того, что что-то, что мог быть автором Янцзы, передавалось на протяжении веков, мы все же можем получить представление о его взглядах из описаний и осуждений его учений Мэнцием и другими писателями немного более позднего периода Хань. Вполне возможно, что то, что мы описали выше как примитивизм, является не чем иным, как напряжением мысли, на которое повлияли янгистские догматы и верования.
Ян Чжу, как и Мэнсиус, по-видимому, рассматривал себя и человеческое тело как важный ресурс для универсальных, объективных форм власти через xing . Мы видим это в следующей цитате Мэнция, в которой говорится: «Даже если бы он принес пользу миру, вырвав хоть один волос, он бы этого не сделал». Похоже, что так называемый эгоизм Янцзы основан на принципе сохранения некоторых аспектов своего «я» или тела сверх всего остального. Более поздний автор утверждает, что то, что Янцзы ценил, было я само по себе, в то время как другие описывали его мышление следующим образом: «Сохранение целостности своей природы, сохранение своей искренности и не позволять вещам утомлять свою форму (тело) — эти Янцзы выступал, но Менсий осуждал.В этом примере оцениваемое «я» состоит из xing , тела и «подлинности» — расплывчатого понятия, которое, кажется, относится к духовному идеалу, присущему или изначальному человеку. Основываясь на таком описании, Ян Чжу, кажется, идеализировал определенные аспекты личности, которые помогают определить ее сущность, будь то материальная, духовная или и то, и другое. Настаивая на четком разделении между тем, что является внутренним или связанным с человеком, с одной стороны, и внешними вещами, которые могут утомлять его, с другой, Ян Чжу присоединяется к Менциусу, основывая свои идеалы на фундаментальном различении внутреннего и внешнего.Однако его рекомендация оберегать «я» и его аспекты от внешнего загрязнения, если она верна, составила бы еще более крайнюю форму индивидуализма, чем то, с чем мы столкнулись с Мэнцием.
Как и Чжуанцзы, Ян Чжу (в соответствии с более поздними текстами, приписывающими его убеждениям определенную, относительно последовательную точку зрения), похоже, поддерживал сохранение некоторого существенного и жизненного духа, который в конечном итоге связан с человеческим телом и его целостностью.В отличие от Чжуанцзы, который хочет, чтобы люди превзошли собственное осознание границ себя и своей материальности, Ян Чжу, кажется, прославляет их существование и призывает к сохранению строгого разделения между тем, что находится внутри, и тем, что принадлежит сущности. сфера самости и то, что находится вне и принадлежит сфере вещей. Таким образом, основное различие между Чжуанцзы и Ян Чжу заключается в том, что Ян Чжу, по-видимому, ценит себя как материальное тело, которое является священным именно из-за его существенной материальности и способностей к жизни.Чжуанцзы, с другой стороны, прямо не поддерживает культ жизненной силы. Он призывает людей превзойти свое тело и свою материальность, чтобы принять то, что он иногда называет духом Дао , который следует понимать как эфирный тип жизненной силы.
Учитывая эти описания мысли Ян Чжу, кажется справедливым называть его индивидуалистом, а не апологетом эгоистичного эгоизма. В конце концов, нет убедительных доказательств того, что Ян Чжу продвигал эгоизм в том смысле, что он вдохновлял людей на поиск собственной выгоды за счет эксплуатации общественных ресурсов или благ.Более того, нет четких указаний на то, что Ян Чжу молчаливо потворствовал нанесению вреда или разрушению общества через свои идеалы. Скорее, большинство надежных свидетельств указывает на тот факт, что Ян Чжу переопределил, что значит ценить себя с точки зрения личного, материально-духовного спасения. В самом деле, Ян Чжу, возможно, был одним из первых мыслителей, как и Мэнсиус, которые рассматривали xing и себя как первоисточник идеализированной индивидуальной деятельности и смысла.
Индивидуализм, представленный здесь, был широкой ориентацией в ранней китайской мысли, которая постулировала ценность и автономию личности и, в некоторых случаях, обнаруживала источники идеализированной космической силы и власти внутри индивидуального тела.Широко распространенные представления о самосовершенствовании рассматривали личность как ключевое место моральной или духовной трансформации, и, следовательно, личность была основным средством усвоения социальной и космической власти и порядка. Ранние китайские мыслители также предполагали моральную или духовную автономию человека, наделяя его силой изменять свою жизнь и делать важный выбор в отношении морали, самосовершенствования и подчинения внешним источникам власти. Авторы-индивидуалисты, такие как Мэнсиус, Примитивист и, возможно, Ян Чжу, зашли так далеко, что натурализовали космические или божественные источники власти в мире, поместив их в самом человеческом теле.Таким образом, они сделали индивидуальное тело первичным источником идеализированных агентств и оценили развитие таких врожденных сил как высшее благо.
8. Ссылки и дополнительная литература
- Эймс, Роджер и Дэвид Л. Холл. «Проблема« я »в западной мысли», «Мышление от хань»: «Я», истина и трансцендентность в китайской и западной культуре . Олбани: State University of New York Press, 1998.
- Эймс, Роджер, Вимал Диссанаяке и Томас Касулис, изд. Я как личность в азиатской теории и практике . Олбани: State University of New York Press, 1994.
- Эймс, Роджер, Вимал Диссанаяке и Томас Касулис, изд. Я как образ в азиатской теории и практике . Олбани: State University of New York Press, 1998.
- Угол, Стивен. Права человека в китайской мысли: межкультурное исследование . Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 2002.
- Бауэр, Джоан и Дэниел Белл, ред. Восточноазиатские вызовы правам человека .Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 1999.
- Блум, Ирен, ред. «Конфуцианские взгляды на личность и коллектив», Религиозное разнообразие и права человека , Ирен Блум, Дж. Пол Мартин и Уэйн Л. Праудфут, 114–151. Нью-Йорк: Columbia University Press, 1996.
- Бриндли, Эрика. Индивидуализм в раннем Китае: деятельность человека и личность в мышлении и политике. Гавайский университет Press, 2010.
- Чан, Джозеф. «Моральная автономия, гражданские свободы и конфуцианство», Философия Востока и Запада , 52.3 (2002): 281-310.
- Чен, Альберт Х. Ю. «Совместимо ли конфуцианство с либеральной конституционной демократией?» Journal of Chinese Philosophy 35.2 (июнь 2007 г.): 195-216.
- Csikszentmihalyi, Mark. Материальная добродетель: этика и тело в раннем Китае . Лейден: Brill, 2004.
- Эмерсон, Джон. «Открытие тела Ян Чу», Философия Востока и Запада. 46,4 (1996): 533-566.
- Грэм, Ангус К. Споры Дао: философские аргументы в Древнем Китае. La Salle, IL: Open Court, 1989.
- Грэм, Ангус К. «Предпосылки менцианской теории человеческой природы», Журнал китайских исследований Цин Хуа, том . 6 (1957): стр. 215-271.
- Гринвуд, Джон. «Индивидуализм и коллективизм в моральном и социальном мышлении», Моральный круг и личность: китайский и западный подходы, , ред., Ким Чон Чонг, Сор-хун Тан и К. Л. Тен, 163–73. Ла Саль, Иллинойс: Открытый суд, 2003.
- Хансен, Чад.«Индивидуализм в китайской мысли», Индивидуализм и холизм: исследования конфуцианских и даосских ценностей , изд. Дональд Манро, 35–55. Анн-Арбор: Центр китайских исследований, Мичиганский университет, 1985.
- Айвенго, П. Дж. Конфуцианское нравственное самосовершенствование . Нью-Йорк: Питер Лэнг, 1993. .
- Клайн, Т.С. III и П. Дж. Айвенго, ред. Добродетель, природа и нравственность в Сюньцзы . Индианаполис: Hackett Publishing Company, Inc., 2000.
- Клайн Т.С. III. «Моральное действие и мотивация в Xunzi », Добродетель, природа и нравственное влияние в Xunzi , ред. Т. К. Клайн III и П. Дж. Айвенго, 155–75. Индианаполис: Hackett Publishing Company, Inc., 2000.
- Карин Лай. «Понимание изменений: взаимозависимая личность в окружающей среде», Новые междисциплинарные перспективы в китайской философии , изд. Карин Лай. Серия дополнений к журналу Journal of Chinese Philosophy (2007): 81-99.
- Линь, Юшэн. «Эволюция доконфуцианского значения Jen и конфуцианская концепция моральной автономии», Monumenta Serica 31 (1974-75): 172-83.
- Лю, Лидия Х. «Транслингвальная практика: дискурс индивидуализма между Китаем и Западом», Рассказы о свободе воли: самосознание в Китае, Индии и Японии , изд. Вимал Диссанаяке. Миннеаполис: Университет Миннесоты, 1996.
- Лю, Цинпин. «Сыновство против социальности и индивидуальности: о конфуцианстве как« кровнородстве », Философия Востока и Запада 53.2 (2003): 234-250.
- Лю, Сюшен. «Мэнцзянский интернализм», Очерки моральной философии Мэнцзи, , изд. Сюшен Лю и Филип Айвенго, 101–31. Индианаполис: Hackett Publishing Co., Inc., 2002.
- Манро, Дональд. Концепция человека в раннем Китае , перепечатка. Анн-Арбор: Центр китайских исследований, Мичиганский университет, 2001.
- Манро, Дональд, изд. Индивидуализм и холизм: исследования конфуцианских и даосских ценностей . Анн-Арбор: Центр китайских исследований, Мичиганский университет, 1985.
- Нилан, Майкл. «Конфуцианское благочестие и индивидуализм в ханьском Китае», Журнал Американского восточного общества 116.1 (1996): 1-27.
- Роузмонт, Генри, младший «Правозащитные и ролевые лица», Правила, ритуалы и ответственность: эссе, посвященные Герберту Фингаретту , изд., Мэри Боковер, 71-101. Чикаго: Открытый суд, 1991.
- Роузмонт, Генри-младший. «Кто выбирает?» Китайские тексты и философские контексты , изд. Генри Роузмонт младший, 227-263. LaSalle: Открытый суд, 1991.
- «Два места власти: автономные и связанные лица», Конфуцианские культуры власти , изд. Питер Д. Хершок и Роджер Т. Эймс, 1-20. Олбани: State University of New York Press, 2006.
- Рот, Гарольд. «Психология и самосовершенствование в ранней даосской мысли», , Гарвардский журнал азиатских исследований, 51.2 (1991): 599-650.
- Рубин, Виталий А. Человек и государство в Древнем Китае: очерки четырех китайских философов .Пер. Стивен И. Левин. Нью-Йорк: Издательство Колумбийского университета, 1976.
- Шун, Квонг-лой. «Концепция личности в раннеконфуцианской мысли», Конфуцианская этика: сравнительное исследование «Я», автономии и сообщества, , ред., Квонг-лой Шун и Дэвид Вонг, 183-99. Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 2004.
- Shun, Kwong-loi and David Wong, ed. Конфуцианская этика: сравнительное исследование себя, автономии и сообщества . Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 2004.
- Виноград, Ричард. Границы личности: китайские портреты, 1600-1900 гг. . Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 1992.
- Уилсон, Стивен А. «Конформизм, индивидуальность и природа добродетели: классический вклад конфуцианства в современные этические размышления», Конфуций и аналитики: новые эссе , изд. Брайан В. Ван Норден, 94–115. Оксфорд: Oxford University Press, 2002. .
- Йерли, Ли. «Космическое отождествление Чжуан-цзы», Даосская духовность , том.10 из Мировая духовность: энциклопедическая история религиозных поисков , под редакцией Ту Вэй-минга, Нью-Йорк: Перекресток, готовится к печати.
- Юй Инь-ши. «Индивидуализм и нео-даосское движение в Китае Вэй-Цзинь», Индивидуализм и холизм: исследования конфуцианских и даосских ценностей , изд. Дональд Манро. Анн-Арбор: Центр китайских исследований, Мичиганский университет, 1985.
- Чжан Цяньфан. «Человеческое достоинство в классической китайской философии: переосмысление мохизма», , Журнал китайской философии, 34.2 (июнь 2007 г.): 239-255.
Информация об авторе
Эрика Бриндли
Электронная почта: [email protected]
Государственный университет Пенсильвании
США
Культурная история философии Блог
Ханна Аскари прошла модуль «Философская Британия» в Queen Mary в 2015 году. В этом посте она пишет об «индивидуализме» как о философском ключевом слове.
Изображение с http://www.spectator.co.uk/features/8940211/in-defence-of-individualism/
Индивидуализм (а)
«Привычка быть независимой и самостоятельной; поведение, характеризующееся преследованием собственных целей без привязки к другим; свободное и независимое индивидуальное действие или мысль.’ [1]
Я начал свое исследование с простого Google «индивидуализма». Интересно, что оно привело к открытию веб-сайта под названием «Индивидуализм». После еще нескольких поисков я обнаружил, что этот веб-сайт полностью охватывает социальные сети, а также имеет страницы в Twitter, Instagram, Tumblr и Facebook. Этот веб-сайт довольно парадоксально описывает себя как «коллектив, посвященный признанию мужского стиля». Это место, где вы (и весь остальной мир Интернета) можете найти советы и рекомендации, как выразить свою индивидуальность эстетически.Для меня эта онлайн-фракция является примером того, что означает «индивидуализм» сегодня, в двадцать первом веке.
Быть «индивидуальным» сегодня часто может подарить человеку уникальное чувство моды или эксцентричность; то, чего придерживается веб-сайт. Тем не менее, «индивидуализм» по-прежнему остается словом с целым рядом коннотаций. Это политическая философия, которая ставит во главу угла моральную ценность человека. Левый комментатор, обозреватель и писатель Оуэн Джонс жалуется на продвижение «индивидуализма собачьего-собачьего» [2] современных тори в качестве замены сильным ценностям рабочего класса, таким как общность и солидарность.В этом смысле быть «индивидуальным» часто ассоциируется с эгоизмом, эгоизмом и жадностью; прилагательные, с которыми большинство согласится, не особенно желательны.
Тем не менее, политический и эстетический идеал «индивидуализма» на самом деле имеет гораздо более долгую историю.
Оскар Уайльд, возможно, является одной из главных фигур в размышлениях об эстетическом индивидуализме. Его яркая философия оправдывала его яркую личность; который сформулирован через вымышленных персонажей в его литературе и эссе.Уайльд верил в ценность того, что «эстетика выше этики» [3]; он считал, что высшая цель в жизни — «различать красоту вещи» [4]. Его философия была атакой на старомодные викторианские ценности альтруизма. Он и другие антиальтруисты «хотели создать новый моральный язык и новый вид этики» [5]; тот, который сосредоточен на искусстве и личности. Хотя философия эстетизма Уайльда не была совершенно новой или оригинальной, она действительно позволяла дистанцироваться от викторианской традиции.Провокационные интерпретации Уайльда проиллюстрированы в De Profundis , в котором он пишет о Христе, что:
Люди пытались представить его обычным филантропом или причисляли к альтруисту с ненаучным и сентиментальным. Но на самом деле он не был ни тем, ни другим [6]
В конечном счете, Уайльд выдвигает Христа как «величайшего из индивидуалистов» [7] и предлагает, чтобы один был полезным и милосердным по отношению к другим, не ради их блага, а ради собственной самореализации.
Оскар Уайльд: яркость в форме изображения. Изображение с http://www.oscarwildeinamerica.org/features/the-modern-messiah.html
Теоретик дегенерации Макс Нордау сказал, что эстетический индивидуализм Оскара Уайльда был всего лишь «чисто антисоциалистическим, эго-маниакальным безрассудством и истерическим желанием произвести сенсацию». [8] Понятно, что для традиционного викторианца Уайльд был воплощением признаки тревожной современной культуры 1890-х годов.
В 1890-х годах английский философ Г.Э. Мур был вдохновлен Оскаром Уайльдом и начал сравнивать важность альтруизма и эгоизма как этической морали. Он задавал себе такие вопросы, как «эгоисты ли мы?» И «любим ли мы себя больше всего?» [9] В его публикации 1903 года Principia Ethica утверждается, что:
Эгоизм, несомненно, превосходит альтруизм как учение о средствах; в огромном большинстве случаев лучшее, что мы можем сделать, — это стремиться получить какое-то благо, которое нас интересует, поскольку именно по этой причине мы с большей вероятностью получим его.[10]
Principia Ethica — это новаторское философское исследование того, что является «хорошим». Для дальновидных Bloomsbury Group это стало своего рода Библией и заложило философские основы их эстетических принципов. И для Мура, и для представителей Bloomsbury Group этическое «добро» было воплощено в важности индивидуальных отношений и личной жизни. Мур продвигал идею Уайльда о том, что обнаружение красоты «является лучшей точкой, к которой мы можем прийти» [11], определяя прекрасное как «то, чем восхищенное созерцание само по себе хорошо.’[12] Для G.E. Мур, именно в доброте искусства и красоте можно найти моральный смысл, а не в благотворительности и мыслях о других.
Индивидуализм (б)
«Принцип или теория, согласно которой людям должно быть разрешено действовать свободно и независимо в экономических и социальных вопросах без коллективного или государственного вмешательства». [13]
Анархистка-феминистка Дора Марсден работала в Социально-политическом союзе женщин (WSPU), но у нее возникла мотивация выразить свой индивидуализм.Она была известна своим участием в серьезных политических демонстрациях; что в конечном итоге привело к формальному разрыву с WSPU. В конце 1911 года она создала свой собственный журнал: The Freewoman: A Weekly Feminist Review . Она хотела защитить феминизм, который имел дело не только с избирательным правом; «третья волна» опередила свое время.
Дора Марсден арестована за суфражистскую деятельность в Манчестере в 1909 году. Изображение из Музея полиции Большого Манчестера
Это была книга Макса Штирнера The Ego and his Own , предлагающая философию, посвященную индивидуализму, которая еще больше повлияла на Марсдена.Штирнер утверждает, что самообладание может существовать только тогда, когда индивид свободен от всех обязательств, только тогда индивид может быть уверен, что они никогда не используются другими для своих целей, а только индивид для собственных целей. Штирнер считал, что платформа, заботящаяся о благополучии групп, погубит этих исключительных людей.
Именно эта концепция личности (и отсутствие финансирования) для Freewoman подтолкнула Дору Марсден к созданию The New Freewoman: An Individualist Review ; Далее следовало:
Новая Свободная женщина предназначена не для улучшения положения женщин, а для расширения прав и возможностей людей — мужчин и женщин; это не для того, чтобы освободить женщин, а для демонстрации того факта, что «освобождение» — это личное дело каждого человека и должно происходить из первых рук [14]
The New Freewoman была недолгой публикацией и к январю 1914 года трансформировалась в The Egoist: An Individualist Review . The Egoist стал одним из основных журналов модернизма и был домом для ряда влиятельных литературных художников, таких как Эзра Паунд, Уиндем Льюис, Т.С. Элиот. Более того, первый роман Джеймса Джойса, Портрет художника в молодости , был напечатан как сериал в Эгоист.
Превращение Марсдена в стирнийский индивидуализм на самом деле можно рассматривать как естественное развитие. Все началось с протеста против методов Панкхерстов и отказа от идеи о том, что женское движение зависит от принесения в жертву индивидуализма.Ее журналы — убедительное свидетельство ее меняющейся и развивающейся точки зрения; сначала как сторонник демократического избирательного права, а затем как сторонник анархического индивидуализма.
Преобразование журнала под редакцией Марсдена. Изображение с http://modjourn.org/
Тем не менее, не Дора Марсден Рассел Брэнд назвал «иконой индивидуализма». [15] Это, конечно же, Маргарет Тэтчер! Тэтчер часто критикуют за то, что она «внедрила ген жадности в британскую душу» [16], что олицетворяет натиск культуры «яппи».Стремление превратилось в жажду чего-то большего, например, машины или дома.
После смерти Тэтчер в 2013 году вокруг ее печально известной цитаты возникла волна дискуссий:
Нет такого понятия, как общество. Есть отдельные мужчины и женщины, а есть семьи. И ни одно правительство не может делать ничего, кроме как через людей, и люди должны в первую очередь заботиться о себе. Наш долг — заботиться о себе, а также заботиться о своих соседях [17].
Тэтчер, как и многие до нее, считала индивидуализм важным аспектом жизни.К сожалению, ее премьерство вызывает и вызывает ожесточенные споры. Когда Дэвид Кэмерон стал лидером Консервативной партии в 2005 году, он заявил, что «есть такая вещь, как общество, но это не то же самое, что государство» [18]. Он хотел дистанцироваться от споров, которые окружают Тэтчер, которая все еще остается ассоциируется с эгоистичным и безразличным индивидуализмом.
Оскар Уайльд однажды сказал, что индивидуализм «стремится нарушить однообразие шрифтов, рабство обычаев, тиранию привычек и низведение человека до уровня машины.[19] Сегодня мы ближе, чем когда-либо, к превращению человека в машину, и индивидуализм находится под угрозой. Насколько интересно было бы «сделать» Оскара Уайльда, Дору Марсден, даже Маргарет Тэтчер, позволить человеку расслабиться и потревожить… абсолютно все?
Дополнительная литература:
Dixon, T The Invention of Altruism: Making Moral Meanings in Victorian Britain, (Oxford: Publish for British Academy by Oxford University Press, 2008)
Кларк, Б. Дора Марсден и ранний модернизм (Анн-Арбор: University of Michigan Press, 1996).
Уайлд, О. и др., Полное собрание сочинений Оскара Уайльда, (Оксфорд: издательство Оксфордского университета, 2000).
Браун, С. Л. Политика индивидуализма (Монреаль: Black Rose Books, 1993).
Мейксинс Вуд, E. Разум и политика: подход к пониманию либерального и социалистического индивидуализма. (Калифорнийский университет Press, 1972)
Библиография
Кларк, Б. Дора Марсден и ранний модернизм (Анн-Арбор: University of Michigan Press, 1996).
Диксон Т. Изобретение альтруизма (Oxford University Press, 2008)
Джонс, О. Чавы: демонизация рабочего класса , (Лондон: Verso, 2011)
Wilde, O. et al, The Complete Works Of Oscar Wilde (Oxford: Oxford University Press, 2000)
Сайты
BBC News
Хранитель
Фонд Маргарет Тэтчер
Оксфордский словарь английского языка
Модернистские журналы Проект
Зритель
Зрительский архив, 1828-2008 гг.
Каталожные номера:
[1] [1] Ред.com, «Индивидуализм, Н.: Оксфордский словарь английского языка», 2015 г., http://www.oed.com/view/Entry/94635?redirectedFrom=individualism&.
[2] Оуэн Джонс, Чавы: демонизация рабочего класса, , (Лондон: Verso, 2011) с. 71.
[3] Оскар Уайльд и др., Полное собрание сочинений Оскара Уайльда, (Оксфорд: Oxford University Press, 2000). Vol. 4 шт. 204. Все взгляды выражены Гилбертом в книге «Критик как художник», впервые опубликованной в журнале Intentions (1891)
.[4] Там же.
[5] Томас Диксон, Изобретение альтруизма, (Oxford University Press, 2008). п. 322
[6] Оскар Уайлд и др. (2000) т. 2, стр. 176.
[7] Wilde et al. п. 176
[8] Макс Нордау, Degeneration , (University of Nebraska Press 1993) стр. 319. В Thomas Dixon, The Invention of Altruism , p. 333.
[9] Документы Апостолов, данные Муром 26 февраля 1898 года и 4 февраля 1899 года. In Dixon 2008, p. 354
[10] Г.Э. Мур, Principia Ethica, (Cambridge University Press, 1993) стр. 216 в Там же.
[11] Оскар Уайльд и др. (2000) с. 204.
[12] Г. Э. Мур (1993) стр. 249
[13] Oed.com, «Индивидуализм, N .: Оксфордский словарь английского языка», 2015 г., http://www.oed.com/view/Entry/94635?redirectedFrom=individualism&.
[14] «Взгляды и комментарии», The New Freewoman: An Individualist Review , (1 июля st 1913), vol.1 no. 2., с. 25 http: // библиотека.brown.edu/pdfs/13033055129.pdf
[15] Рассел Брэнд, «Рассел Брэнд о Маргарет Тэтчер», The Guardian, 2013 г., http://www.theguardian.com/politics/2013/apr/09/russell-brand-margaret-thatcher.
[16] Саймон Келнер, «Миссис Тэтчер имплантировала ген жадности в Британию», The Independent, 2013 г., http://www.independent.co.uk/voices/comment/mrs-thatcher-implanted-the-gene- of-greed-in-britain-8565716.html
[17] Интервью для Woman’s Own, 1987. http: // www.margaretthatcher.org/document/106689 [последний доступ 06.03.2015]
[18] Дэвид Кэмерон, «BBC NEWS | Великобритания | Политика Великобритании | Полный текст: победная речь Кэмерона », News.Bbc.Co.Uk, 2005, http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/4504722.stm.
[19] Оскар Уайльд и др., Стр. 260
Project MUSE — Философия индивидуализма: интерпретация Фукидида
Философия индивидуализма: интерпретация Фукидида ГАРРИ НЬЮМАНН Только в физическом смысле физических тел, которые для чувств отделены друг от друга, индивидуальность является исходным данным.Индивидуальность в социальном и моральном смысле требует совершенствования. Дж. Дьюи. Реконструкция в философии. Поскольку поведение человека определяется тем, что можно назвать его животной природой, его импульсами и аппетитами, оно не является историческим; процесс этих действий — естественный процесс. Коллингвуд, Идея истории 2 Was ich als geistiges Wt ~ n bin, das bin ich im Wesentlichen flir reich allein und in v ~ lliger Unabh ~ ngigkeit: diese Oberzeugung durchherrscht das moderne Denken, und sic hat zur Folge, dass der «Geist» die Einheit mit dem I2ib.. . nicht als wesentlich erkennen kann. Г. Крфигер, Einxicht und Leidenschaft 3 THUCYDIDES сегодня редко считают философом. Даже будучи историком, он обычно не заботится о прошлом и будущем, а также о культурной и экономической истории. Его утверждение, что человеческая природа по существу неизменна, также отвергается. Предполагаемые недостатки такого рода обычно объясняются его неспособностью выйти за пределы «атмосферы мнений», формирующей его творческие усилия. Утверждается, что ни один мыслитель не может полностью освободиться от предрассудков, навязанных политическими, социальными и экономическими условиями его времени и положения.4 Таким образом, даже это исследование является пересмотром «Che cosa la Storia? Interpretazione di Tucidide», 11 Pensiero, X (1965), 153–170. Ему помогли гранты Колледжа Скриппса и Фонда Форда. а (Нью-Йорк, 1951), стр. 152. (Оксфорд, 1946), стр. 216. a (2-е изд .; Франкфурт-на-Майне, 1948), стр. 174. 9 Collingwood, pp. 25–31, 42–43, 108, 217–249; K. L6with, «Mensch und Geschichte», Gesammelte Abhandlungen (Штутгарт, 1960), стр. 152-178; С. Розен, «Философия и идеология: размышления о Хайдеггере», Социальные исследования.XXXV (1968), 260–285; П. Гейл, Использование истории и злоупотребление ею (Нью-Хейвен, 1955), стр. 29, 32, 51-53, 61-64, 70: «история — это аргумент без конца»; Л. Штраус, Город и человек (Чикаго, 1964), стр. 9–12, 141–145, 153–154, 218; и Ницше, Jenseits yon Gut und Base, 45, 295; Die Fr6hliche Wissenschaft, 1249, 337, 344, 357; G6tzend ~ nmerung, V, 6; VI, 8; IX, 32-34; Der Wille zur Macht, 408, 412, 556, 1029-1033, 1041, 1065, 1067. [237] 238 ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ, если бы действия человека основывались на неизменной человеческой природе, действующей в любой исторической ситуации, этот абсолют был бы недоступен. человеческое понимание.Отказ Фукидида от этой точки зрения позволяет ему фактически игнорировать прошлое и будущее и вместо этого сосредоточиться на одном современном событии, Пелопоннесской войне, поскольку этот конфликт, по его мнению, обеспечил наиболее показательный подход к истине, присущей всей человеческой деятельности. Поэтому он считает ее величайшей войной всех времен ((1,1,21,2,22,4)). В этой статье делается попытка показать, почему Фукидид классифицировал современных историков и философов, критически относящихся к его ориентации, к поэтам, осужденным им в начале своей работы (I 21.1, 9.1-3). Это контрастирует его концепцию истории с концепцией философии, изложенной Сократом в «Республике» Платона. Ибо государство, управляемое королями-философами, представляет собой утопическую попытку «преобразовать» или воспитать страсти, которые Фукидид считал неисправимыми по своей природе. Таким образом, эти современные теоретики и философы-короли Сократа, как бы велики ни были их различия, оба сталкиваются с Фукидидом в вопросе конечной эффективности любой попытки контролировать или обучать человека.Позиция Фукидида, возможно, лучше всего раскрывается в его критике поэтического описания Троянской войны. Ибо он находит там ошибки в описании событий, к которым у него не было прямого доступа, как к событиям Пелопоннесской войны (I 9). Таким образом, мотивы, приписываемые им Агамемнону и его помощникам, должны были возникнуть исключительно из его собственного представления о человеческом поведении. Важно отметить, что его спор с поэтами идет не о фактах как таковых, а о формировании ценностей или взглядов.
